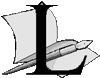2.4 Этноним в обыденной философии языка
1. Этноним: анализ дискурса
Традиционная лингвистика занималась, в основном, происхождением, распространением, функционированием и структурой этнонимов. Результаты этих исследований в гораздо меньшей степени помогали понять, почему, например, при слове цыгане все прячут кошельки, при слове чеченец ищут полиэтиленовый пакет, а слово еврей принято произносить шепотом. Анализ же этнонимов в рамках наивной картины мира позволяет выявить те аспекты «трения слова о внесловесную среду», которые остаются скрытыми, когда мы рассматриваем язык как относительно автономную систему отношений слов. Человек никогда не использует слова ради слов: он живёт и действует – и при этом использует слова для организации своего собственного и совместного с другими опыта в этой жизни; центр всякого высказывания лежит вовне, в социальной среде (Волошинов 1993: 77-82). Слово – часть общественной практики, оно неотделимо от действия (действие, впрочем, отделимо от слова и само может часто считаться знаковым), поэтому дискурсный анализ функционирования этнонима (если определять дискурс как «речь + действие») выявляет аспекты языкового существования субъекта: жизни языка в социальной среде и жизни человека в языке как в среде.
Вспомним: Типичный немец, такой педантичный, Эмоционально жестикулирует, как истинный итальянец, или даже: Он русский, это многое объясняет. На уровне бытовой философии существует ощущение того, что этноним не просто обозначает народ как этническую общность. За словами русский, немец, итальянец и др. всегда стоит нечто большее, чем некоторая группа людей. Употребление этнонима вызывает в сознании свёрнутые в единый образ воспоминания о предшествующих контекстах его употребления, контекстах общественной практики с участием носителей этого имени, оценку соответствующих референтов, отношение к ним и т. п. То есть, этноним «ведёт за собой» миф как свёрнутое руководство к действию: myth does not limp but it leaps «миф не хромает, а прыгает» (McLuhan 1995: 361), ср. английское выражение to jump at conclusions, досл. «прыгать на выводы». Бытовая философия языка включает мифы о собственном и чужом имени, о своём и чужом народе, о родном и иностранном языке и др.
Такая ретроспективная интертекстуальность (ретенция или память слова) присуща, разумеется, не только этнонимам, но и в принципе всем словам и фрагментам дискурса. Однако в данном случае лексема-этноним характеризует одного из возможных участников коммуникации. Более того, она приписывает возможному собеседнику классификационные признаки ещё до вступления в коммуникацию. Оценочные стереотипы оказывают существенное влияние на начало, осуществление и последствия коммуникации (протенция или опережающая интертекстуальность). Совокупные субъекты (нации) в рамках процесса межкультурной коммуникации взаимно намечают свои роли через этнонимы и вызываемые ими стереотипы.
2. Этнокультурные стереотипы и этнокультурное пространство
Считается, что стереотипическая классификация нивелирует характеристики входящих в класс индивидов. Стереотип, как типографское клише, создаёт идентичные впечатления о любом представителе некоторой социальной группы, необходимые для определения нашего отношения к ней, нашего способа поведения, нашего способа адаптации к окружающей социальной среде, состоящей из множества отдельных индивидов. В каком-то смысле здесь человеком руководит определённый страх и беспомощность перед бесконечностью окружающего мира. Стереотипизация своих реакций, своего поведения, экономит усилия, снижает неопределённость существования, позволяет человеческому существу приспособиться к среде (Lippmann 2004: 81-95).
Выделяют четыре разновидности этнокультурной стереотипизации: простые авто- и гетеростереотипы (что мы думаем о себе и о «чужих») и переносные (projected) авто- и гетеростеротипы (что мы предполагаем о том, что «чужие» думают о нас и о себе самих), ср. с. 14-15.
Несмотря на многоступенчатость отражения, во всех разновидностях стереотипизации отношения и поведения просмотривается единый стержень. Даже определяя другую нацию, народ имеет в виду самого себя, свои собственные характеристики, свои границы в поведенческом континууме – по принципу бинарной оппозиции, столь типичной для мифологизированного сознания. Если «они» – бездельники, то «мы», почти наверняка – трудолюбивые (или наоборот: автостереотип далеко не всегда и не обязательно положителен).
Одним из основных механизмов семиотической индивидуальности является граница. Своё этнокультурное пространство противопоставляется чужому как безопасное – опасному, ср. с. 15.
В социальном организме наиболее релевантными для межкультурных контактов являются билингвы и бикультуралы, исследователи и знатоки чужой культуры, экономические и культурные посредники (бизнесмены, торговцы, артисты, переводчики, студенты и преподаватели языков и др.), население приграничных областей. Центральные и маргинальные этномифологемы (авто- и гетеростереотипы), действительно, в чем-то различаются, как центр и периферия семиосферы (Лотман 1996: 178-179) или этнического поля.
Так, анкетные ответы и высказывания финнов, знакомых с русской культурой, в значительной степени отличаются от общего стереотипа о русских, во многом связанного с историческими ошибками и обидами, разорванностью связей и недостаточной информированностью:
Надо помнить, что в Финляндии тоже есть такие люди, которые знают, например, русскую культуру и язык, и они относятся положительно к русским;
Но те финны, которые знают русских людей, даже одного, у них только положительные мысли о русских. Они считают, что они очень «духовные» люди – такие, которые с сердцем думают и живут. Финнам кажется, что русские гостеприимные, приветливые, образованные и совсем весёлые люди. Они также много знают об искусстве и культуре, больше, чем финны обыкновенно знают.
В анкетах и интервью из Центрального региона России (Воронеж) практически полностью отсутствовали негативные коннотации в отношении этнонима финн, пренебрежительное же слово чухонец связывалось, в лучшем случае, с достаточно неопределённым народом, упомянутым в стихах Пушкина: приют убогого чухонца. Некоторые респонденты проводили аналогию с российским Пошехоньем и популярным сортом сыра (Пошехонским). В целом, слова чухна, чухонец, чухонский малоизвестны и воспринимаются как слегка архаичные. В Петербурге же слово чухна возможно и как элемент бытового дискурса: Это все их чухонские проблемы (из уличного разговора; речь идёт о деятельности общественной организации ингерманландцев). Таким образом, стереотип (гетеростереотип: «типичный финн глазами русского»), несмотря на наличие инвариантной зоны коннотаций, проявляет себя как географически изменчивое явление. Простой гетеростереотип в отношении финнов в ответах воронежских респондентов включает такие определения, как трудолюбивые, работящие, «качество» / серьезные, пунктуальные / внимательные, рассудительные / сдержанные, миролюбивые / общительные, галантные, и т. п. Сочетание финское качество почти что приобрело статус фразеологизма, часто используется в рекламе (например, краски фирмы Тиккурила). Единичные ответы отмечали, что финны себялюбивые, эгоистичные, скупые / жестокие, мстительные / холодные, апатичные, «тормозные».
Стереотип проявляет и свою историческую изменчивость, это видно из противоречивых определений русских как бедных и как богатых. В последнем случае имеются в виду так называемые новые русские:
Особенно в восточной Финляндии финны имеют положительные мнения о русских, потому что русские люди – туристы – приносят очень много денег в Финляндию.
Но теперь финны уже не считают русских только ворами, а хорошими клиентами магазинов <…> русские клиенты на самом деле спасли многие магазины своими деньгами <…> русских любят, потому что у них деньги, я не знаю, любят ли их иначе.
Определение пьющие вряд ли можно отнести к разряду отрицательных оценок, учитывая особенности русского национального мифа о питье. Вот как эвфемистически определяет финнов один из респондентов: лыжники, пьющие напитки, чтобы согреться. В переносном автостереотипе русских также прослеживается комплекс вины в отношении употребления алкоголя. Другие нации, по мнению респондентов, считают русских грубыми, невоспитанными, дремучими, непривлекательными, грязнулями / пьющими водку, большими пьяницами, алкоголиками. На самом же деле русские не столь плохи, ср. извинительный дискурс столетней давности: Чепуха все это, что «Руси есть веселiе пити», вздоръ! На Руси пьютъ только съ горя, или отъ невъжества, то есть, опять-таки с горя. Такихъ питухов, чтобы пили для одного удовольствiя или радости, у насъ мало, иль ни чуть не больше чъм у другихъ народов. С. Крашенинников. «Въ уголке», цитал. по: (Михельсон S.a.: II, 207). А вот отзвук этой идеи в сочинении финской студентки: Русские тоже музыкальные и меланхолические. Музыка у них очень грустная, и они пьют, вероятно, от грусти.
3. Мифы о языках
Наивной картине мира свойственна внутренняя противоречивость: в ней могут уживаться мифы разных степеней аккультурации индивида (вытирать нос платком или рукой, переводить пословно или по правилам переводческих трансформаций и т. п.). Их использование не жёстко определено, а ситуативно связано. Мифологемы такого рода по своей сути взаимно дополнительны. Но были выявлены и такие представления о нациях и языках, которые практически не подвергались сомнению и разделялись подавляющим большинством респондентов: мифы тоталитарного действия, например, «какой язык самый красивый?».
Мифологемы семиотической границы соотносятся с концептами иных наций. Эти элементы концептосферы постоянно воспроизводятся в текстовой деятельности, имеют интертекстуальную опору (великий и могучий русский язык). Практически все мифологемы чужих языков могут быть соотносены со степенью сформированности толерантного сознания. В то же время, ряд из них (например, «трудный/сложный», «правильный/неправильный» язык), вероятно, имеют непосредственную связь и с автодидактическим поведением наивного пользователя.
Самым красивым русские респонденты считают французский язык (50 %), на втором месте идёт русский (31,3 %), далее, по крайней мере, в нашем опросе – английский (12,0 %). Английский также выводят на второе место и по «некрасивости» (18,8 % ответов), самым же «некрасивым» считается немецкий язык (37,5 %). Историческая обусловленность оценки не нуждается в комментариях, всё же напомним, что, по свидётельствам современников, в XVIII-XIX вв. позиция немецкого языка в русскоязычной концептосфере была прямо противоположной (лиричный, поэтичный, музыкальный и т. п.). Двойственность же позиции английского языка может быть связана с противостоянием «проамериканской» и «патриотической» тенденций в общественном сознании.
Наиболее трудным языком русские считают китайский (50,0 % – хотя процент знакомых с ним на много порядков ниже), далее идут японский (20,0 %) и русский (12,0 %). Русский, тем не менее, как элемент положительного автостереотипа – и самый лёгкий язык (43,8 % ответов). На третьем месте по лёгкости стоит английский язык (18,0 %), а вот второе место занял ответ «не знаю». Положительная характеристика английского в автодидактическом стереотипе может быть связана с первыми последствиями снятия «железного занавеса» и сдвигами в мотивации изучения языков, хотя иностранные языки всё же косвенно признаны трудными (ответ «не знаю легких языков»).
Вот ещё ряд результатов: самый серьёзный – английский (31,3 %), немецкий (25,0 %), русский (19,0 %); самый смешной – китайский (37,5 %), японский (25,0 %), украинский (12,0 %).
Разумеется, в национальной концептосфере даётся оценка только тем языкам, которые тем или иным образом релевантны для данной нации. Это либо языки территориально близких народов (финский, украинский и др.), либо культурно связанных народов, международные языки-доминаторы (английский, китайский и т. п.). Проведённое исследование позволило приблизительно позиционировать языки в рамках русскоязычной национальной концептосферы.
Ассоциативный опрос показал, что английский язык считается международным, трудным, правильным, популярным; русский – родным, красивым, богатым, точным, простым, очень хорошим, нормальным. Немецкий язык – грубый, жёсткий, варварский, трудный; украинский язык – смешной, глупый, близкий, некрасивый, хороший и смешной; финский – мягкий, мелодичный, светлый, смешной, медленный.
Более развёрнутый вариант анкеты предполагал анализ дискурсных фрагментов (ср. Kalaja 1995: 196-197) – метаязыковых высказываний о «пригодности» языка, его преимущественном использовании в той или иной социальной коммуникативной сфере. Так, английский язык больше всего подходит для делового общения с иностранцами, для всего и для всех, для разговора о компьютерах и экономике, русский – для всего, для разговора с друзьями, для поэзии и науки. В соответствии с уже выявленными оценками, немецкий язык подходит для войны, для военных действий, для угрозы, для разговора о спорте; украинский – для того, чтобы смешить людей; для того, чтобы слушать с интересом; французский – для объяснения в любви, для комплиментов, для стихов о любви; для того, чтобы говорить красиво; итальянский – для объяснения в любви, для скандалов, для наименования блюд, для пения.
4. Мифологемы и границы
«Культура организует себя в форме определённого пространства–времени и вне такой организации существовать не может. Эта организация реализуется как семиосфера и, одновременно, с помощью семиосферы» (Лотман 1996: 178). Интертекстуальные события, связанные с созданием прецедентных текстов и распространением их перлокутивного эффекта в коммуникативной среде, напоминают эффект волны от брошенного в жидкую среду камня. Пограничные события (в прямом и переносном смысле: от войны до контактов дипломатов и «народной дипломатии») также напоминают волну, затухающую по мере удаления от границы.
Человек проходит две основные стадии самоидентификации в жизни. Первая – отграничение себя как индивида от социальной среды, состоящей из других индивидов. Вторая – отграничение себя как вида или подвида (нации, народа, социума, общности) от других социальных групп. Имя человека и имя народа (антропоним и этноним) являются двумя центрами мифологической системы, организующей жизнь и выживание индивида, сотрудничество и совместное выживание совокупности индивидов. Это я и Это мы – первичные элементы социального дискурса, определяющие границы внутреннего и внешнего микромира, среды обитания человеческой особи. В этом смысле делимитативная и конституирующая функция этнонима (и националистического дискурса) ничем не отличается от дискурса, например, подростковых группировок или болельщиков футбольной команды.
Мифологемы, связанные с этнонимами, в первую очередь, позволяют самому народу-носителю языка отграничить себя и выделить собственные мифологизированные черты из континуума возможных поведенческих стереотипов. Заявляя о том, что какой-то народ молчалив, мы признаём себя если не говорливыми, то уж во всяком случае не такими молчаливыми. Можно сказать: Скажи мне, что ты думаешь о своём соседе (о другом народе), и я тебе скажу, каков ты сам. Гетеростереотип говорит не столько о референте связанного с ним этнонима, сколько о создателе и пользователе стереотипа.
Второе, что следует сказать об этнонимах-мифологемах, это их территориальная, индивидуальная и историческая неоднородность. Наиболее дифференцированы гетеростереотипы в пограничных областях, именно здесь присутствуют в достаточной степени отрицательные коннотаты, в центре этнокультурной среды образ другого народа менее эмоционален, более взвешен, толерантен. Внутри этнокультурной среды различия в мифологизации этнонима зависят от социальной функции и предыстории индивида. Межкультурные посредники более толерантны, зачастую вовсе отрицают негативные коннотации, у них вырабатывается осознанный метакоммуникативный взгляд. Наконец, баланс негативных и позитивных коннотаций в мифологемах-этнонимах меняется в зависимости от исторической эпохи, исторических и интертекстуальных событий (прецедентные тексты могут в значительной степени изменить существующий стереотип). Таким образом, этнолингвистическую компетенцию можно воспитывать.
Разумеется, мифологемы наивных межъязыковых сопоставлений отражают не столько «объективные» качества того или иного языка, сколько типичные стереотипы интерпретирующего социума, проявляющиеся в коммуникативном поведении его представителей. Интересно, что мифологемы, связанные с языковой онтологией и автодидактикой (сколько значений имеет слово, сколько значений имеет иностранное слово, где находится язык и т. п.) также представлены в достаточно противоречивых, порой весьма противоположных взглядах наивных пользователей, отражающих различные стадии продвижения в изучении языка и формировании собственной метаязыковой компетенции – это мифы комплементарного действия (см. далее, Часть 3).
Что же касается мифологии языкового статуса, то в этом случае наблюдается удивительное единодушие (единомыслие) респондентов – перед нами, как уже отмечалось – мифы тоталитарного действия. Самый богатый для русских – русский язык (93,8%), он же самый точный (75,0%). Это, по-видимому, связано с тем, что оценка того или иного языка как красивого/некрасивого, трудного/сложного связана не с субъектным саморазвитием наивного пользователя, а с воспринимаемыми им стереотипами национальной концептосферы. В этом смысле можно говорить о мифологии чужих языков и как о концептах (Попова, Стернин 1999: 3-4; Воркачёв 2002: 8-11) английского, финского, немецкого и других языков в русскоязычной концептосфере. Предпочитая во всех случаях термин «мифологема», мы подчеркиваем деятельностный характер данного стереотипа, разделяя взгляды М. Мак-Люэна и Р. Барта на миф как готовность действовать и миф как вторичное, метасемиотическое явление (McLuhan 1996: 361; Барт 1994: 79-81).
Можно сказать, что русский авто- и гетеростереотип (мифологемы этнического статуса и поведенческие стереотипы) включает в себя противоречивые черты, сама противоречивость также подчёркивается многими респондентами. Русскоязычный совокупный индивид, как подросток, хочет и быть как все, обладать универсальными положительными чертами, и выделиться, обладать неповторимыми, уникальными чертами. Поэтому русские – пьющие и критикующие себя за пьянство, легкомысленные и серьёзные, бездельники и талантливые, глупые и умные. Таков оксюморон современного (и, возможно, не только современного) русского языкового существования (ср. отмеченный Лотманом оксюморон границы: наши поганыи): между замкнутостью и ксенофобией, с одной стороны – открытостью и любвеобильностью, с другой. События в социально-политической среде последних лет также ставят русских в пограничную позицию выбора между противоречивыми коммуникативными поведенческими стереотипами. Возможно, это приведет «к культурному выравниванию и созданию новой семиосферы более высокого порядка, в которую включаются обе стороны уже как равноправные» (Лотман 1996: 192), консенсуальной коммуникативной среды (Maturana 1978: 47-50).
Кашкин, В.Б. Парадоксы границы в языке и коммуникации. Воронеж: Издатель О.Ю.Алейников, 2010. С.212-220.