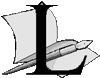3.4 Обыденная философия языка, наивная лингвистика и наивная лингвистическая технология
Научные понятия являются воротами, через которые осознанность входит в царство детских понятий.
(Л. С. Выготский)
- 1. Знание языка, знание о языке, научная лингвистика
Становится всё более очевидным, что простые пользователи языка не могут считаться пассивными реципиентами «лингвистического знания» (что бы это ни обозначало). Их активная роль проявляется не только в изучении собственного языка или других языков, не только в творческих попытках или жалобах на порчу языка; они всегда тем или иным образом, явно либо неявно, стремятся обобщать как свой опыт в родном языке, так и «встречи» с иным языком. Они формулируют собственные представления о том, как устроен язык и откуда он возник, в чём различия между языками и есть ли преимущества у одних языков перед другими, как изучать языки, как переводить, как узнать, говорят ли слова «правду» и т. п. Свои представления о языке его носители и создатели, не совсем удачно названные «наивными пользователями», формулируют в собственных концептах, системах этих концептов, иногда – в довольно пространных теоретических построениях, по степени обобщения достойных быть названными обыденной лингвистической теорией, либо повседневной философией языка. В то же время эти обобщения, эти представления о языке, языках, обучении, переводе и т. п. часто весьма далеки от того, чего хотелось бы ожидать теоретическому лингвисту или преподавателю языка.
Хотя во многом обыденные теории языка и не соответствуют представлениям современной лингвистики, многое в них может быть соотнесено с появлением первых идей о языке в истории науки (легенды о происхождении языка и «смешении языков», поиски совершенного языка, народная этимология и т. п.). Думается, что к истории развития представлений о языке применимо известное положение из биологии: филогенез изоморфен онтогенезу, пути развития индивида и развития вида сходны. Сходны также пути появления и развития представлений об устройстве языка у отдельного человека («наивного пользователя») и у человека совокупного, человечества в целом («наивные цивилизации» и этапы первоначального развития). Нельзя не признать при этом и того, что границу между наивным пользователем и учёным-лингвистом, равно как и границу перехода от наивных взглядов, от житейских (спонтанных) понятий к научным чётко провести почти невозможно, она «оказывается в высшей степени текучей, переходимой в реальном ходе развития с той и другой стороны неисчислимое количество раз» (Выготский 2006: 857).
«Объект гуманитарных наук – это не язык, но то существо, которое, находясь внутри языка, окруженное языком, представляет себе, говоря на этом языке, смысл произносимых им слов и предложений и создаёт, в конце концов, представление о самом языке», – как указывал Мишель Фуко (Фуко 1994: 372-373). «Говорящее существо» находится в когнитивных отношениях со своим языком трояким образом: оно знает язык (неосознаваемое знание), рассуждает о языке (осознание) и со временем развивает способы остранения, верификации, «объективации» своих сведений и представлений о языке (общественно принимаемое знание).
Первое разделение языковых знаний – на «знание языка» и «знание о языке». Если общественно принимаемое (научное) знание появляется всё-таки не сразу, то рефлексия пользователя языка о своём вербальном инструменте появляется одновременно с ним самим. По утверждению У. Матураны, наблюдатель начинает наблюдение – и в то же время размышляет о способах своего наблюдения и пытается их объяснить: «we are already in the experience of observing when we observe our observing» (Maturana 1990: 12-13). Самонаблюдение, самоконтроль, автомониторинг заложены в механизме языковой деятельности. Мониторинг собственной речевой деятельности проявляется в явлениях антиципации и вероятностного прогнозирования своей и чужой речи, рекурсии и самокоррекции в процессе порождения речи и т. п. Языковой и речевой самоконтроль входит в общий механизм когнитивного мониторинга, метакогнитивный механизм (Flavell, 1979: 906-911). Механизм языка, его система (в сознании отдельного индивида, где она только и имеет единственное реальное существование) уже представляют собой первичную лингвистику. Употребляя язык, создавая, а также вновь и вновь (рекуррентно) воссоздавая его из речи, человек проявляет и своё «молчаливое знание» о нём: «This tacit, ‘surplus’ knowledge is displayed in the very acts of applying – or abstaining from applying – language in all sorts of contexts» – «Это молчаливое, ‘прибавочное’ знание проявляется в самих актах использования – или отказа от использования – языка в любых контекстах» (Johannessen 1996: 294-295).
Понятие о молчаливом знании (tacit knowledge) разрабатывалось М. Поланьи на базе идей позднего Витгенштейна (Polanyi 2009). Молчаливое знание проявляется, в первую очередь, в действиях пользователя языка, в выборе тех или иных «ходов» в языковой игре, в способах их оформления. Вербализация этого знания, его превращение в тексты не всегда необходимы. В то же время, наличие возможности такой вербализации позволяет наблюдать это знание в явном виде: либо в рассуждениях «наивных» пользователей о своём языке и чужих языках, либо в теоретических построениях профессиональных лингвистов.
- 2. Философия языка – обыденная и научная
Есть два крупных заблуждения, мешающих науке воспринимать обыденные взгляды, и наоборот, мешающих воспринимать адекватно язык науки. Первое из них связано с отношением к бытовому знанию, как к чему-то несерьёзному, «детскому», отбрасываемому в ходе интеллектуального развития как индивидом, так и обществом. Второе, в развитие первого, считает науку набором единственно правильных ответов на все вопросы, сформулированных чётким и однозначным языком. Ни то, ни другое не является верным. Более того, такой подход, излишне возвеличивающий общественно признаваемую науку и принижающий значимость индивидуального знания, приносит достаточно много вреда и недопонимания.
Заблуждение, касающееся «точности» языка науки, как правило, соотносимо и с представлением о метафоре как об «украшении» речи. На самом же деле ни метафора несводима к исключительно украшательской функции, ни язык науки несводим к набору точных ярлыков для предметов и явлений окружающего мира. Как раз в этом взгляде и отражается одна из основных мифологем бытовой философии языка (язык как набор слов-вещей или слов-ярлыков, напрямую связанных с вещами). Стремление к такой принципиально недостижимой точности в особенности характерно для так называемых «точных наук» (hard sciences, или просто sciences, в противовес humanities). Впрочем, как сказал один филолог в интервью: «Если физики хотят, чтобы я поверил в точность и неметафоричность их науки, пусть сначала расскажут мне, что растёт в их полях: электромагнитном, силовом, гравитационном и так далее». Это, кстати, и один из примеров аксиологичности нашего познания и тем более социально одобряемого знания.
Аксиологичность познания проявляется и в социальной оценке «важности» той или иной сферы науки. Так, в равной степени пуританизм с позитивизмом на Западе, и эмпириокритицизм со сталинизмом на Востоке, приводили к мысли о превосходстве hard sciences над гуманитарным знанием. В общественном сознании культивировался миф о науке как о сфере для избранных, как об идеальном инструменте для производства «объективной истины» и т. п. Р. Мертон и Дж. Поттер определяли институциональные императивы западной науки на основе отделения субъекта от объекта (Merton 1973: 18-19; Potter 1996: 18-19). Эти императивы включают нейтральные критерии, свободный обмен знаниями, незаинтересованность оценки, систему «объективной» апробации и верификации: universalism, communism, disinterestedness and organized skepticism. В советской и ныне российской традиции даже теперь обыденное сознание следует сталинской иерархии наук: математика и физика важнее психологии и филологии, поскольку первые участвуют в «материальном производстве»: «физики» важнее «лириков». Впрочем, следующий фрагмент интервью с ещё одним профессором-филологом возвращает аксиологический смысл даже естественной науке и технологии: «Зато от нас и вреда нет» (из разговора филолога с ядерным физиком о «пользе» гуманитарных, или «неестественных» наук).
Ближе к концу ХХ столетия всё чаще стала звучать мысль о бессмысленности антагонистического противопоставления естественных и гуманитарных наук, ведь всё знание гуманитарно, поскольку является знанием человека, а не набором ярлыков для «объективного мира». Акцент смещается с объекта на субъект познания (Лем 2005: 306-308), показывая их фактическую неразрывность в языковом представлении знаний: Todo lo que es dicho, es dicho por un observador «Все, что говорится, говорится наблюдателем» (Maturana & Pörksen 2004: 17-18). В противовес подходу, жёстко разделявшему тело и душу, природу и сознание, субъект и объект познания – по традиции связываемому с Декартом – в западной науке сформировалась новая, не-картезианская парадигма, известная под разными названиями embodiment, the embodied mind, enactivism, social constructivism и т. п. (Varela, Thompson & Rosch 1991). Этот подход стремился преодолеть «парадокс границы» субъекта и объекта.
Аналогичным образом и в отечественной лингвистике в последнее время стало особо модным причислять собственную работу к «антропоцентрической парадигме», даже если на деле она таковой не является. В прикладной лингвистике, в метакогнитивных исследованиях также перешли от изучения представлений как объекта рассмотрения – к субъекту, имеющему эти представления: «from the study of beliefs to the study of believers» (Kramsch 2003: 110). Но разве в языкознании, наиболее «естественной» из всех гуманитарных наук, но всё же гуманитарной, существовало когда-либо противопоставление материальных субъекта и объекта?
В гуманитарных науках человек изучает самого себя, являясь одновременно субъектом и объектом познания (парадокс субъект-объектной границы), единицами же исследования являются функциональные проявления деятельности человека, представляемые метафорически как материальные единицы. Как отмечает П. Джоунз, в традиционной лингвистике всегда абстрагировались и реифицировались «наблюдаемые моменты коммуникативного поведения» (observable aspects of communicative behavior); эти единицы воспринимались и рассматривались как материальные элементы (Jones 2007: 64). Метафоричность «единиц языка» именно как «единиц» редко осознается, хотя таким образом, фактически, смешиваются явления сферы познания и сферы физических явлений (physical and logical domains) (Yngve 1996; Sypniewski 2007: 2-3).
Метафоричность языка науки подчеркивали многие (Гусев 1984: 135; Кашкин 2003: 237; Shi-xu 2000: 429-430; Лакофф 2004: 218-219). Но если метафора рассматривается не как простое украшение, а как одно из основных средств и способов познания (познание через сравнение), то снимается и абсолютная категоричность противопоставления научного и бытового сознания, а сама метафора становится просто одним из неотъемлемых средств научного дискурса. Впрочем, бытовой дискурс не менее метафоричен и точно так же познаёт новое через сравнение с уже известным.
Если метафоричность является общим свойством как обыденного, так и научного познания, то способы верификации знания в обыденной и научной сферах различаются кардинально. Наука опирается на выводное знание, степень соответствия которого проверяется по вырабатываемым в самой науке критериям. Обыденному познанию «некогда» заниматься верификацией, поскольку повседневная практика требует непосредственного реагирования. Весьма часто поэтому выводы обыденного познания скороспешны, опираются на ложные генерализации и стереотипы. «Зачем верить в отдалённую перспективу, предлагаемую наукой, когда кажется, что есть мгновенный результат», – эти слова У. Эко об альтернативной медицине в противовес научной применимы и к любой оппозиции научного и обыденного знания (Eco 2002). Обыденное знание обладает свойствами мифа, поскольку миф – это свёрнутое восприятие многогранного и многоэтапного действия, не допускающий размышления во время своего использования.
Обыденное представление, таким образом, ближе к вере, нежели к знанию. Чтобы действовать, человек должен поверить в правильность своих действий. Вера и собственно знание, фактически, являются однородными явлениями, отличающимися только сферой использования: индивидуально или социально. Как считает Д. Вудс, «Belief is not a self-contained element qualitatively different from knowledge, motivation nor action, but rather a “colouring of” or “angle on” cognition» – «Представление (вера) не является замкнутым отдельным элементом, качественно отличным от знания, мотивации или действия, но скорее “оттенком” познания, “углом зрения”» (AILA 2008: 65). Научное сообщество вырабатывает определённые техники «фиксирования веры» (fixing belief), получая общественно принимаемое знание. Вера является двигателем действия (belief is a rule for action) для достижения человеческих желаний, и неважно, насколько верным является это представление (belief) (Peirce 1877: 7-8). Мифология наивного пользователя языка, таким образом, вовсе не должна считаться обширным заблуждением или набором ошибочных представлений. Имея дело с обыденным знанием мы, фактически, сталкиваемся с одним из первичных (и альтернативных) способов познания мира и управления человеческими действиями в нём.
- 3. Наивные представления о языке
Обыденная философия языка включает сферу наивной науки (как устроен язык, откуда он произошёл, как получилось смешение языков и т. п.) и наивной технологии (как правильно пользоваться языком, как изучать языки, как переводить с одного на другой и т. п.). Как обыденная наука о языке, так и обыденная лингвистическая технология разделяются на внутриязыковые, внутрикультурные представления (в том числе, и базовые представления о языке вообще) и на межъязыковые, межкультурные представления (сравнение, контраст разных языков, перевод).
Обыденная философия языка представляет собою иерархическую систему мифологизированных представлений о языке и его использовании (Kashkin 2007: 187). Базовой мифологемой следует признать мифологему слова-«вещи», реифицирующую мифологему. В соответствии с этим представлением, основным элементом языка признается слово. Слово трактуется как дискретная, чётко выделимая единица с определённым значением в родном и «странным» значением в чужом языке (либо с множеством значений). Слово слово: «отражает рефлексию языка над самим собой. Можно сказать, что концепт слова – это квинтэссенция наивной лингвистики» (Левонтина 2000: 290).
Материал, отражающий метафоризацию лингвистических элементов и процессов собирался в течение ряда лет из самых разнообразных источников. Их можно разделить на четыре основные группы: 1) наблюдение; 2) анкетирование; 3) интервью; 4) анализ текстов. Поскольку между всеми этими четырьмя группами наблюдались очевидные и вполне ожидаемые параллели, для иллюстрации наивных представлений о языке, слове, обучении, переводе и т. п. в данном издании этот материал используется в равной мере и как равноправный в экземплификации. Текстовый материал приводится также на разных языках, поскольку значительных идиоэтнических различий в наивных представлениях о языке пока не наблюдалось. Примеры даются, как правило, курсивом и в кавычках, без дополнительного указания на тип источника.
Наблюдение, в том числе и в первую очередь, включённое наблюдение характеризуется тем, что наблюдатель-исследователь сам является преподавателем, студентом, переводчиком, то есть, принимает участие в процессе обучения или перевода. Значительную часть наблюдений составляют так называемые «ошибки» или девиации (Дебренн 2006). Такой «отрицательный материал» может позволить выявить причины и мотивацию выбора «неверной» формы высказывания, за которыми часто стоят наивные представления о языке.
Анкетирование и интервьюирование в наибольшей степени соответствуют задачам проникновения в сознание наивного пользователя. В анкетах можно, не дожидаясь удачного момента в процессе наблюдения, задать соответствующие вопросы об обучении языку, о переводе, об оценке собственной деятельности и т. п. Чаще всего анкеты не спрашивают напрямую о представлениях респондента, а создают видимость опроса о качестве преподавания, о собственных трудностях, об оценке прогресса в обучении, об ожиданиях и т. п. (Mori 1999; Кашкин 2002). Собственно метакогнитивная проблематика не столько высказывается, сколько выявляется исследователем при анализе ответов.
Интервьюирование (так называемое «клиническое интервью», в терминологии Ж. Пиаже) и последующий дискурсивный анализ транскрипта позволяют получить более глубокую и развернутую картину наивной картины языка и формирования представлений о языке в процессе обучения. Разновидностью интервью является «письменное интервью» или сочинения (эссе) на темы типа: «Как я решил стать переводчиком», «Как я изучал иностранные языки» и т. п. В некоторых зарубежных публикациях сейчас встречается термин language learning career (language learning history), соответствующий тематике последнего из вышеупомянутых сочинений. Близкими к первой тематике являются так называемые self-reports, которые могут быть написаны не только учениками, но и преподавателями языка (история работы, подготовки к карьере, проблемы, жалобы на «ошибки» учеников и т. д.). Отмечается непредсказуемый, нелинейный, «блуждающий» характер «языковой карьеры»: «learning careers are erratic rather than linear or predictable» (Bloomer & Hodgkinson 2000: 593). В этом состоит одно из существенных сходств обыденного и научного познания: не прямолинейное, а «блуждающее» направление развития. Как писал Г. Башляр, наука представляет собой «историю заблуждений», постоянное «исправление ошибок» (correction des fautes) (Bachelard 1983).
В сочинениях об «истории изучения иностранного языка» выделяют ключевые дискурсивные моменты, связанные с переживаниями трудностей, поворотными моментами (phase, process, incident, critical incident). Именно по этим поводам производятся высказывания, отражающие представление обучающегося о языке и процессе обучения, невысказанные, но могущие быть вербализованными: «На первый урок училка принесла картинку с буквой А и сказала, что она читается ‘эй’. Мы ушли домой радостные и все читали А как ‘эй’. На следующем уроке она показала ту же картинку и сказала, что эта же буква читается иногда ‘э’. Мы ушли домой и подумали: непростой английский язык. А на следующий день училка принесла стихотворение и сказала выучить наизусть. И я сказал себе: Ша, парниша, этот язык ты никогда не выучишь!». Ученик, активная и вначале стремящаяся к знаниям личность, фактически, протестует против бессистемности преподавания. Не у той ли «училки» учились большинство российских любителей джаза, называющих jam session (должно было бы произноситься и писаться «сэшн») странным словом «сейшн» (соответствующее данному произношению английское слово пишется sation и не имеет никакого отношения к музыке). Такое стремление всюду, где надо и не надо, вставлять ‘эй’ в заимствованных словах, «чтобы больше по-английски звучало», прослеживается системно, ср. например, бейджик (от англ. badge ‘бэдж’, с русским уменьшительным суффиксом)
Наиболее традиционный для любого лингвистического исследования анализ текстов в данном случае предполагает тексты, в которых так или иначе говорится о языке, языках, изучении языков, переводе и т. п. – от пословиц до романов. Так, например, для исследования метапереводческих представлений интересны тексты следующих жанров: вступительные и заключительные статьи к переводам (предисловия и послесловия), сноски, внутритекстовые и послетекстовые примечания переводчика или редактора, критические статьи, пародии, воспоминания переводчиков, художественная литература или фильмы, в которых упоминается перевод, размышления о переводе в прессе и т. п. В конечном итоге, сочинения на тему «Как я стал переводчиком» также являются текстами, может быть, более спонтанными, чем статьи или романы. В современной интернет-коммуникации сложилась ещё одна интересная сфера, занимающая промежуточное положение между письменными текстами и устной речью, это форумы, дневники («Живой журнал», блоги и т. п. жанровые сферы). Блогосфера даёт возможность непосредственного наблюдения и экспериментирования: исследователь может стать участником обсуждения, приближая этот материал к транскриптам интервью.
Материалы из всех источников дают многообразные метафорические контексты лексемы слово как материальной вещи с физическими характеристиками: слово тяжёлое; легковесное; как камень; стена из слов; бросаться словами; слова, как ястребы стальные; слова ветшают, как платье и т. п. Подобные контексты встречаются во всех языках и отражают универсальный компонент обыденной метаязыковой философии: англ. Words are bodies whose members are letters «Слова – тела, а части тел – буквы»; the status of obscure words and random internet finds «положение тёмных слов и случайных находок в интернете»; англ. “Blunt Words for a Blunt World” «тупые слова для тупого мира». Действия со словами равны действиям с материальными вещами: Is this the word you send them? «Ты это слово им послал?»; Er sammelt etwas, das wir täglich tausendfach in den Mund nehmen: Wörter «Он собирает то, что мы ежедневно держим во рту – слова»; англ. He <…> Butchers the words in his ugly mouth as I wince and turn sideways to suck air «Он … Искорёживает (как мясник) слова в своём уродливом рту, а мне тем временем удаётся, морщась от боли, вывернуться и сделать вдох».
Слова могут наделяться свойствами живых существ: англ. who has taken it as his or her special mission to keep this word alive «который счёл своей особой обязанностью поддерживать жизнь этого слова»; англ. has also largely robbed the word of its sting «и в значительной степени лишил это слово его жала». Слово способно двигаться, совершать действия, в том числе и целесообразные, умышленные (одушевление слова): англ. The poet’s room is full of words, words which move about in the shadows «Комната поэта наполнена словами, словами движущимися в полумраке»; Mark Twain or Samuel Clemens if you prefer said it best, “Words Light Fires” «Марк Твен или, если хотите, Сэмьюэл Клеменс лучше всех сказал об этом: “Слова зажигают огни”»; Words are pale shadows of forgotten names. As names have power, words have power. Words can light fires in the minds of men «Слова это бледные тени забытых имён. Раз имена обладают властью, слова тоже обладают властью. Слова могут зажечь пламя в мыслях людей»; итал. accogliamolo come un amico severo, la cui parola è fuoco che purifica, lavacro che monda, ala che solleva «мы принимаем его как сурового друга, чьё слово – огонь, что очищает, как очищающая купель, как крыло, поднимающее в полёт»; Una volta sfuggita, una parola vola via irrevocabile (Orazio Flacco) «Однажды ускользнув, слово улетает безвозвратно (Гораций Флакк)».
Как и полагается материальной вещи, слово имеет протяженность, внутреннюю структуру и место в пространстве: франц. derrière les mots il y a quelque chose dedans et quelque chose dehors «за словами есть что-то внутри и что-то снаружи». Слово способно «лечить и калечить», быть оружием: итал. Parole mi hanno ferito, parole mi guariranno «Слова меня ранили, слова меня и вылечат»; мы создали поле боя из бессонниц, а оружие – звонки или слова; немецк. Wortarmeen «армии из слов»; Ambrose Bierce’s definition: англ. “An army of words escorting a corporal of thought” «Амброз Бирс давал такое определение: “Армия слов сопровождает капрала мысли”».
«Языковое сознание «овеществляет» абстрактные сущности» с помощью метафор (Воркачёв 2004: 138). Как считал Гастон Башляр, чей научный путь охватывал множество сфер – от физики до лирики, и, разумеется, философии, человек склонен интуитивно верить в простоту знания. Сейчас наличие этой интуитивной веры подтверждено рядом экспериментов в разных областях познания. Знание должно состоять из кирпичиков, из дискретных, простых элементов, – так говорят респонденты, изучающие языки, историю, химию, физику и т. д. (Schommer & Walker 2005; Mori 1999). Интуитивная вера в простоту приводит и к идее детерминизма, причинности, что тесно связано с «фетишизмом объекта», твердого тела, «вещи». Башляр называет это явление chosisme (Bachelard 1983: 102-107). Интуитивная вера в простоту в наивной лингвистике проявляется в мифологеме «вещности» слова, метафоре слова как песчинки, как строительного «кирпичика» языка и речи, в метафоре слова как контейнера для более мелких песчинок – значений.
Слово в повседневной философии языка обладает внутренней дискретностью, является вместилищем значений, которые могут быть подсчитаны. Даже в родном языке, хотя родные слова кажутся «простыми и понятными», допускается наличие одного-двух значений. В ответах на анкеты респондентов из разных языковых культур признается, что слово в любом иностранном языке имеет «намного больше значений»: «у американцев от 1 до xn», и, наоборот, для американцев «сложны» русские или японские слова. Оппозиция «простоты – сложности» в обыденной теории семантики заменяет неявную (неоткрытую) полисемию родного слова и явную полисемию чужого, с которой ученик неизбежно сталкивается, изучая его употребление в различных контекстах.
Слово не просто уподобляется вещи, слово равно вещи и употребляется наряду с ней: И нет в этом новом кошмаре, обдуваемом адским холодом из дырок трёх нулей (имеется в виду 2000 год), того пестрого сора слов и вещей, который до сих пор иногда снится мне. Слова же в чужом языке считаются «странными названиями обычных вещей», что лишний раз демонстрирует неразрывность отношения слово – вещь в обыденной картине мира. Слово родного языка, как фрагмент картины мира, напрямую связано с элементами человеческой деятельности, в которой произвольность языкового знака не замечается из-за многократного практического употребления вместе с реальным действием над материальными вещами.
Все обозначенные выше мифологемы наивной философии языка, с одной стороны, являются развитием базового представления о реифицированном слове, а с другой, всегда ощущаются сквозь призму эмоциональной оценки пользователя. Два основных направления эмоциональной оценки языковой деятельности в обыденной лингвистике имеют давнюю историческую традицию.
Первое из них связано с отрицательным восприятием девиантного поведения в языке: «ошибок», «порчи», «засорения», «коверкания» языка. Даже в научной технологии языка нормотетика опирается во многом на многовековую традицию жалоб (complaint tradition), идеологию языкового пуризма и т. п. Подобная оценка девиаций неизбежна и жизненно необходима, поскольку представляет собой, фактически, консервативное стремление носителей языка сохранить свой «языковой круг» от разрушения, от стирания границ.
Второе направление связано с «поиском совершенного языка», выражавшееся как в приписывании древним языкам божественных свойств, так и в изобретении особых языков, призванных преодолеть условность и врожденную лживость обычной речи (Эко 2007: 12-14). В истории научного языкознания также были периоды, когда древние языки признавались периодом расцвета, а последующие стадии развития – началом упадка и разложения. Идеальный язык состоял из исчислимого набора простых и сложенных друг с другом звуков, в дальнейшем подвергавшихся разложению, смыслы также не были искажены. Отчасти это в дальнейшем отразилось и в создании искусственных языков (пазиграфии Лейбница с изоморфизмом планов выражения и содержания и эсперанто с минималистским набором звуков и грамматических правил).
Метафоры романтической и натуралистической парадигмы (язык-мать, язык как организм, древо языков и т. п.), тем не менее, дали научной лингвистике очень многое: начиная с биологической терминологии (морфология и др.) и вплоть до идеи системности, высказанной в форме биологической метафоры языка как живого организма. В современных наивных представлениях продолжает жить и идея «очищения» («зачистки»?) языка от «чужеродных элементов», и стремление к идеальной коммуникации (говорить «без скрытых смыслов», «без подтекста», «простым и ясным языком» – таким рассчитывают видеть идеального оратора и политика), и желание найти единственно «правильный перевод», и желание «выучить язык в совершенстве», и многое другое.
- 4. Наивные представления об использовании и изучении языка. Наивная технология перевода
Помимо знания языка и знания о языке, существует ещё один вид знания, связанный в первую очередь с первым типом. Это преимущественно процедурное знание, знание, как пользоваться языком: как писать, как читать, как изучать язык, как переводить и т. п. Оно также может вербализоваться в требованиях пользователя к процессу обучения, в наставлениях и рекомендациях «как писать», в оценке успешности либо неуспешности собственного либо чужого перевода и т. п. В определённом смысле, разделение на когнитивные и процедурные мифологемы обыденной философии языка соотносимо с двумя типами знания по Райлу: know-that и know-how, пропозициональным и практическим (Ryle 1949/2002). При этом «молчаливость» свойственна как тому, так и другому типу лингвистического знания: вербализация наступает лишь в определённых условиях, часто только в условиях эксперимента (интервью, анкеты и т. п.), когда испытуемого просят своё знание сформулировать. Это знание доступно и косвенному наблюдению в изучении процессов лингвистического выбора, ошибок или, точнее, девиаций.
Наивная технология считается второй стороной процесса мониторинга собственной деятельности. Наблюдение и оценка (monitoring), с одной стороны, и, с другой стороны – использование оценки для изменения поведения, или управление поведением (control) в их взаимодействии возводятся ещё к идеям У. Джеймса о методе интроспекции как основном способе познания (Son & Schwartz 2002: 15).
Технологическая сторона бытовой философии языка опирается на базовую мифологему вещности слова. Представление о процессе изучения языка сводится практически исключительно к «запоминан… Продолжение »