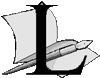3.1 Аспекты метаязыковой деятельности
1. Сопоставление языков в науке и в обыденной жизни
Было бы заблуждением полагать, что проблема сопоставления разных языковых систем ограничивается сферой компаративистики и контрастивистики, интересуя лишь лингвиста-профессионала. Сопоставление языков – весьма распространённая бытовая реальность. Наиболее яркий пример бытовой контрастивистики – межъязыковой перевод и изучение иностранных языков, представляющие собой широкомасштабный «естественный» лингвистический эксперимент, поставленный без эксплицитного участия лингвиста-исследователя.
Мы, разумеется, отвлекаемся от того случая, когда субъект и объект исследования, то есть, лингвист-исследователь и переводчик или участник процесса обучения, совпадают в одном лице, так сказать, от «парадокса границы» вследствие «множественности личности» (о «парадоксе границы» см., например, (López García 1989: 10-12). Отвлекаемся мы и от «лингвистического» наполнения большинства учебников языков, часто вызывающего сильные сомнения в наличии сколько-нибудь серьёзной научной лингвистической подготовки их авторов.
Результаты бытового, донаучного сопоставления, выражающиеся в текстах переводов и речевых произведениях на изучаемом языке, в том числе и даже в первую очередь так называемые «ошибки», являются бесценным материалом для лингвиста-профессионала, поскольку в силу своей естественности и максимальной чистоты «эксперимента» могли бы предохранить от предвзятости в разработке и интерпретации теоретических моделей. И, в обратном движении, теоретические модели могут быть приближены к практическим нуждам пользователя-непрофессионала через обучающие технологии, ср. (Гумбольдт 1986: 346-349; Милашевич 1983: 55-56).
2. Континуальность vs. дискретность: границы
Любое сопоставление исходит из предпосылки существования некоторого tertium comparationis, основания для сравнения, а также сравниваемых объектов, дискретных единиц сопоставления. Попробуем выяснить, какие же собственно объекты сравниваются при сопоставлении различных языков, а также определить степень адекватности такого сопоставления.
Обратимся к весьма тривиальному примеру. В начале изучения иностранного языка индивид, не обременённый специальными лингвистическими познаниями, зачастую приходит к «парадоксальному» выводу: «Иностранный язык труден, потому как в нём все слова – многозначные, в то время как в моём родном как раз наоборот: каждое слово имеет только одно, навсегда закреплённое за ним значение». Высказывание дилетанта, подобное приведенному выше, для исследователя-профессионала может служить лишним доказательством того, что в сознании индивида значение слова (равно как и значение грамматической формы, и «значение» фонемы) в родном языке при первичном, бытовом, неосознанном эксплицитно рассмотрении представляется глобально, нерасчленённо, то есть, как дискретная единица[1].
Не удивителен тот факт, что изучающие иностранный язык на первых порах экстраполируют на новый для них объект категории и отношения известного объекта, то есть, родного языка. Глобальность значения слова, связанная, по всей вероятности, с примитивным отождествлением вещи и слова-заместителя в человеческой деятельности, проявляется и на первых шагах познания иного способа категоризации мира. Индивид, изучающий язык, или переводчик-дилетант, выбирает обречённую на неудачу стратегию приравнивания того, что ему кажется естественным и универсальным: отдельных слов родного и иностранного языков. В результате последовательного ряда «равенств» (например, рус. дерево = англ. tree, но в сделано из дерева ≠ tree, a = wood далее, в let’s go to the wood ≠ дерево, а = лес и т. д. практически до бесконечности) приходят к картине, описываемой в большинстве общеязыковедческих работ, от Гумбольдта до Ельмслева (Ельмслев 1960: 311-313). Эта картина такова: функциональные потенциалы единиц языка (аналогичную картину можно получить и при сопоставлении грамматических форм, и даже фонем[2]), находящихся в системных взаимоотношениях с другими глобальными, дискретными единицами в сознании носителя данного языка, при сопоставлении, контакте языковых систем, при любом «выходе за пределы круга», по Гумбольдту, накладываются лишь частично, при этом к тому же теряют дискретность, распадаясь на отдельные функции. Получается, что не только студент или переводчик-дилетант могут столкнуться и сталкиваются с непреодолимой преградой в результате прямого, «линейного» приравнивания, но также и лингвист-профессионал рискует оказаться в положении человека, сравнивающего апельсины с гвоздями, если не решит хотя бы в первом приближении проблему tertium comparationis и единицы сопоставления. Известно, что первые опыты машинного перевода, осуществлённые дилетантами в области языкознания, повторили ошибку линейного, пословного приравнивания текстов, что отчасти доказывает «естественную обоснованность» этого хода: познание нового через известное (= родной язык).
В самом деле, весьма редким является случай, когда единице а в языке А соответствует единица b в языке В. В то же время, весьма распространено то положение, когда единице а в языке А могут соответствовать единицы b, с, ... n в языке В. Довольно часты и такие случаи, когда грамматической форме g в языке А соответствуют не одна или несколько форм в языке В, а целый набор разноуровневых не-грамматизованных средств, распределяющих между собой при переводе части глобального значения исходной формы g. Так могут ли дискретные единицы конкретного языка служить серьезной основой для межъязыковых сопоставлений, как для бытовых, так и для научных?
Более того, употребляя один и тот же термин, например, «презентный перфект» или «неопределённый артикль», для разных языков, обозначаем ли мы одно и то же? Так, для форм перфекта ряда романских и германских языков, как и в вышеприведенном примере с лексемами «деревянной» тематики, можно констатировать, что функционально-семантические потенциалы этих форм накладываются лишь частично, «растекаясь» между двумя полюсами перфектно-претеритального континуума смыслов: от собственно презентного перфекта (например, в английском) до чисто повествовательного времени (во французском) – более подробно см. (Кашкин 1991: 68-71 и Раздел 1.4).
Утрачивается ли при этом всякая возможность непредвзятого сопоставления? Если да, то становится невозможным перевод, обучение, понимание. Если нет, то какова же точка отсчёта? При сопоставлении хотя бы двух единиц а и b всегда имеется в виду общее их основание, какая-либо категория или класс, a, b ∈ A. Сопоставляя два языка, два класса или две системы единиц, мы также теряем право пользоваться одним из них как критерием, даже при чисто практических задачах, связанных с переводом или преподаванием. Сопоставление двух языков также предполагает наличие некоторого общего класса. А, В ∈ Λ. В идеале лингвистика в целом приближается к заполнению этого общего класса, равного универсальному общечеловеческому языку, A, B, ... N ∈ Λ. Сопоставляя два языка, мы делаем один минимальный шаг по направлению к Λ от противоположного полюса континуума – монолингвистического[3].
С другой стороны, мы должны определить и ту грань, тот переход между континуальностью внешнего мира и дискретностью конкретно-языковых средств его категоризации, которая может обеспечить единое минимальное основание, единицу сопоставления языков. Внешний мир однозначно универсален, конкретно-языковые же средства – однозначно лингвоспецифичны (language specific). Последние не могут быть основанием для сравнения в силу своей конкретности и несовпадения в разных языках, реальный же континуум действительности слишком расплывчат и тривиален для этого. Если продолжить метафору, сравнивающую концептуализацию и языковую категоризацию континуума внешнего мира с разными способами разрезания одного и того же пирога, то исследователя, ищущего совпадения и универсалии, должен интересовать в первую очередь тот «нож», который производит разрезание, то есть, «внутренняя форма языка».
Между внешнеязыковым континуумом и дискретными средствами конкретных языков имеется ряд переходов, иерархический ряд этапов формирования лингвистического действия. Абсолютную бесконечность внешнего мира ограничивает, в первую очередь, позиция субъекта (имеется в виду, разумеется, совокупный абстрактный субъект) в рамках этого мира, то есть, элементарная ситуация. Во вторую – «выбор» субъектом части этой ситуации для отражения в своём сознании, то есть, концептуальная ситуация. Третий ограничитель – категориальная лингвистическая ситуация или комплекс вербальных и номинативных ситуаций. Поиск основания для сопоставления языков так или иначе выводит на проблему квантификации смыслового пространства, расчленения континуума на относительно дискретные элементы, минимальные атомарные значения.
Частичным доказательством существования глубинного уровня атомарных смыслов и комплексной природы значения дискретных единиц может служить тот факт, что при переводе с одного оригинала, написанного на языке, не имеющем формального выражения категории k (например, с безартиклевого и неперфектного русского), на несколько языков, имеющих соответствующие формы ga, gb, … gn, закономерно и регулярно получаются соотносимые результаты. И наоборот, при отсутствии gi для выражения k, а также при несовпадении потенциалов функционирования gj и gi, интегральное значение и его атомарные части не теряются, а перераспределяются в рамках грамматико-контекстуального комплекса. В каком-то смысле, в каждом конкретном языке на периферии функционально-семантических полей, на периферии грамматической системы можно обнаружить неграмматизованные категории, проявляющиеся как грамматические формы в других языках, в любых языках мира. Вполне оправдано сближение минимальных атомарных грамматических значений и минимальных универсальных функций, наиболее близких к ситуативной основе и, в конечном итоге, к внешнему миру[4]. По своей универсальности и фундаментальности они также сопоставимы с дифференциальными признаками фонем.
В то же время, как дифференциальные признаки не действуют сами по себе, объединяясь в фонемы, так и атомарные значения имеют тенденцию интегрироваться в комплексы с неаддитивным эффектом. Более того, именно комплексы атомарных смыслов (молекулы?) бросаются в глаза при сопоставлении языков, повторяясь в различных языках либо полностью, либо – чаще – частично. Ощущается неслучайный характер сочетаемости атомарных смыслов, «кластеров», функциональных типов в рамках общего функционального поля-континуума. Типологическое расположение языков в рамках исследуемого континуума по степени близости тому или иному полюсу (например, перфектные-неперфектные языки) придаёт континууму дискретное членение. Кроме того, данное расположение удивительным образом повторяет исторические этапы развития грамматических средств выражения данных категорий. Хотя удивляться тут нечему: наличие универсальных атомарных смыслов предопределяет возможности развития системы. Идея изоморфизма универсального грамматического континуума и этапов развития языковых систем или их географических вариаций прослеживается в целом ряде работ последних лет[5].
Итак, само существование перевода и возможности освоения иностранного языка, а также конкретика таких межсиотемных переходов, позволяют предположить, что при всём разнообразии разноуровневых средств выражения в различных языках и нерасчленённости внешнего и концептуального континуума имеется достаточно жестко заданный набор атомарных смыслов и их интегральных единств. Именно такие интегральные единства (для грамматики – грамматические интегралы) и могут быть единственным основанием для сопоставления языков, точнее, единицей сопоставления; и далее – в практическом применении также – единицей перевода, обучения и т. п. Они не принадлежат ни одному конкретному языку и, в то же время, присутствуют во всех: Либо эксплицитно, в виде грамматических категорий и форм, либо имплицитно, в виде скрытой грамматики (в одном из смыслов этого термина)[6]. Будучи интегральным единством, они, тем не менее, иерархически разложимы, как с точки зрения генезиса в данном языке, так и с точки зрения функциональной грамматики выбора[7], то есть, выбора формальных средств говорящим в конкретном высказывании или, в обратном направлении, интерпретации высказывания слушающим; так и с точки зрения генезиса её у говорящего при развитии его индивидуального языка.
Дискретное единство, таким образом, раскрывает при изменении масштаба рассмотрения свой внутренний континуум, но это уже предмет для отдельного рассмотрения. Континуальность и дискретность единиц и категорий языка (и языков) относительны: всё зависит от уровня рассмотрения или этапа усвоения. Как указывает К. Бюлер, «понятие “простой” должно определяться особым образом для каждой области» (Бюлер 1993: 249).
3. Метаязыковая деятельность и её аспекты
Заслуга выделения металингвистики как одной из функций человеческого языка, как известно, принадлежит Р. О. Якобсону (Якобсон 1975: 193-230). Метаязыковая функция ориентирована на характеристику использования кода (языка) и проявляется, с одной стороны, в профессиональной деятельности лингвистов, а с другой, в метаязыковой деятельности «наивных» пользователей. Вторая из упомянутых сторон метаязыковой деятельности в определённой степени первична, более того, лингвист-профессионал, в силу известного парадокса границы между субъектом и объектом в так называемом «гуманитарном знании», не перестает быть наивным пользователем. Это определяет возрастающий интерес к метаязыковой деятельности человека в сфере, традиционно считавшейся объектом официальной лингвистики. В то же время, наивный пользователь всегда выступает как действующий субъект, исследующий (и творящий) язык. В этом плане имеет смысл говорить не столько о метаязыковой функции языка, сколько о метаязыковой деятельности, meta-languaging – если перефразировать известный термин languaging У. Матураны (Maturana 1995) – того субъекта, который и осуществляет эту функцию.
Металингвистический компонент выделяется как одна из составляющих языковой деятельности, оказывающая весьма существенное влияние на её организацию и протекание. С одной стороны, имеется «встроенный» металингвистический механизм, проявляющийся, в частности, в том, что любая единица языка является моделью самой себя и ряда аналогичных единиц. Ср. пример Р. Барта: quia ego nominor leo, как собственно предложение, и как пример в грамматике (Барт 1994: 79-81). Но метаязыковая деятельность осуществляется и в более эксплицитном виде: от относительно чётко выражаемых «персональных теорий» изучения языка (Dufva 1994: 22-49) и обращения с ним, до менее явных убеждений и поверий относительно сущности и характера языковых единиц и действий – мифологем языковой деятельности.
Человеческая деятельность с древних времён структурируется, организуется и управляется мифами. Миф в данном контексте понимается как вторичная знаковая система управления конкретными действиями, опирающаяся на принцип экономии (узнавание проще познания) и самосохранения (социоцентрический инстинкт, в первую очередь). Человек является не только знакотворящим, но и мифотворящим существом, более того, вынужденно мифотворящим (см. работы Платона, Э. Кассирера, К. Леви-Строса, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, А. Л. Блинова и др.). В повседневной жизни, в политике, в обучении (в том числе и в дидактической грамматике) мы ориентируемся на сложившуюся систему стереотипизированных действий и представлений. Мифологемы языковой деятельности формируются, в первую очередь, в сфере родного языка, но при столкновении с фактами или носителями других языков складывается также и сфера представлений об «иностранном языке» и собственные наивные теории изучения языка.
Динамические стереотипизированные схемы деятельности формируют мифологическую картину жизни языка и жизни в языке как в среде (ср. Гаспаров 1996: 5-6, 42-51). Мифологемы языковой деятельности не столько описывают язык с точки зрения наивной науки, сколько вызывают в памяти пользователей определённое отношение, символизируют определённые схемы повторяющихся действий и стратегий поведения. В сущности, нет различий в способе организации подобных систем-парадигм в «наивной» и «профессиональной» науке[8] (ср. Налимов, Дрогалина: 1995 и др. работы В. В. Налимова). А. Ф. Лосев также указывал, что «наука не существует без мифа, наука всегда мифологична» (Лосев 1994: 20). Можно выделить следующие их особенности: интерсубъектность, посредническая функция; символический характер, реальность для включённого наблюдателя[9], метафоричность; значимость для осуществления действий (поведенческая релевантность), функция интеграции отдельных этапов действия, координация действий. Абсолютное большинство словарных и энциклопедических определений мифа оперирует тем же списком характеристик, приписывая мифу в традиционном понимании ещё и нарративность. Бытовые же представления о языке в большей степени разрознены и обычно непосредственно не высказываются. В то же время, раскрытие механизмов их действия весьма существенно для понимания языковой деятельности человека. Успешность изучения иностранного языка зависит не только от прилежности обучающегося и хорошо описанных правил, но и от тех элементов его tacit knowledge (термин школы Витгенштейна), которые предопределяют стратегию и тактику его обращения с языком: ожидает ли он, что каждое слово должно иметь определённое значение, либо допускает многозначность; ожидает ли он изоморфизма систем родного и иностранного языков или допускает вариативность и т. п. Успешность интернациональных контактов зависит в большой степени и от предрассудков в отношении «красивых», «трудных», «лёгких», «высокоразвитых» и пр. языков.
Видимо, справедливо и распространённое мнение о том, что язык сам по себе является мифологической системой, или, иначе говоря, системой символов, обозначающих не предметы внешнего мира, а определённые схемы отношения к ним и обращения с ними, организующие человеческое поведение. Помимо мифологемного характера слов языка, выделяются и мифологемы общесистемного и процедурного характера, без которых язык не мог бы существовать и осуществляться, конституирующие языковую игру как таковую: «вещность» слов и естественная конечность их значений. А. Блинов, в частности, называет языковое общение «игрой в осмысленность звуков» (Блинов 1996: 9, 270-272). Мифологемный характер отношения пользователей языка к словам выявляется при смене ролей: роли включённого наблюдателя, находящегося в пределах круга языка (по выражению Гумбольдта), – на роль мета-наблюдателя. Включённые наблюдатели обмениваются несколькими словами, дают слово, берут слово, принимают извинения, передают информацию, как если бы они имели дело с вещами. Для метанаблюдателя каждое слово может быть представлено как процесс и в фонетическом, и в смысловом плане, как взаимодействие интенций и инференций, различных факторов выбора (Kashkin 1998a: 95-98, 109-110), различных исторически и ситуативно мотивированных интерпретаций.
Негативное влияние мифологем на языковую деятельность связано с подменой позиций и временных моментов реального языкового процесса. Позиция включённого наблюдателя (пользователя) и метанаблюдателя принципиально противоположны, однако сложившаяся в современной культуре система преподавания языка, основывающаяся на дескриптивно-прескриптивном подходе предлагает обучаться как раз на примере уже-написанных (сказанных) чужих текстов, в то время как в реальном языковом процессе мы имеем дело с многофакторной ситуацией выбора и множественностью интерпретаций. Многие мифологемы в обучении языкам формируются на основе механистического детерминизма не только бытового сознания, но и школьных грамматик. Таковы, например, мифологема контекстуального детерминизма (авторы грамматических упражнений вырабатывают у обучающегося представление о жесткой контекстуальной заданности выбираемой формы, более подробно см ниже); мифологема ситуативного детерминизма (концептуальная ситуация подменяется реальной, иногда даже предлагается измерять реальное время с помощью часов, чтобы мотивировать употребление той или иной глагольной формы); мифологема монолингвизма (отношения в собственном языке переносятся на иностранный: Зачем этим странным англичанам так много глагольных форм; они в самом деле их все используют?); мифологема наивного натурализма (Но ведь хлеб – он и есть хлеб, а они вишь что придумали – du pain!); мифологема моносемии (Английский язык трудный, потому что в нём все слова многозначные. В русском же языке все слова имеют одно определённое значение), и т. п., см. более подробно далее.
Поле исследования метаязыковой деятельности обширно, однако в нём выделяется ряд сфер, где знания о языке различной степени эксплицитности достаточно очевидны:
– «народная мудрость»: мифологические и протонаучные концепции языка, выразившиеся в пословицах, поговорках, баснях (например, Хоть горшком назови, только в печку не ставь – как иллюстрация принципа арбитрарности знака), и выражающиеся, например, в «письмах в редакцию» по поводу правильности и неправильности, чистоты и порчи языка и т. п.;
– «поэтическая мудрость»: имплицитные наблюдения за языком в поэзии и прозе (например, Что в имени тебе моём? Пушкина и What’s in а name? Шекспира как разные подходы к формулировке семиотических принципов номинации) и эксплицитные размышления поэтов и писателей о языке и языковых процессах (например, «Как писать стихи» Маяковского, “De vulgari eloquentia” Данте и др.);
– знания преподавателя и ученика, получаемые в процессе обучения как родному, так и иностранному языку. Здесь также наблюдается, по меньшей мере, два слоя: эксплицитное знание, получаемое в результате самонаблюдения, language awareness и знание имплицитное, неосознанное, мифологемное. Не следует забывать и о знании в обычном понимании, о знании, получаемом из внешнего источника, типичного для данной культуры, например, из учебника (Dufva, Lahteenmäki 1996: 121-136);
– межкультурное знание, получающееся из наблюдений за ситуациями языковых контактов и контрастов (противопоставление мы и они, их и наш язык, социально-политические последствия подобных противопоставлений);
– профессиональная сфера знаний и наблюдений людей, связанных с использованием языка в своей работе и жизни: переводчики, полиглоты и билингвы, учителя, журналисты, специалисты по рекламе, ораторы, специалисты по связям с общественностью, общественные деятели, дипломаты и т. п.
– «отрицательный материал» ошибок, оговорок, связанных не только с «интерференцией» систем и норм, но и с метаязыковой компетенцией пользователя языка.
Перечень мифологем, оказывающих негативное влияние на процесс обучения или общения, а также сфер действия «наивного» знания можно продолжить. Однако ясно одно: систематическое изучение протонаучного и имплицитного знания языка должно внести свой вклад как в понимание сущности языковой деятельности, так и в оптимизацию лингвистических технологий (в обучении, массовой коммуникации и т. п.).
4. Мифологема контекстуального детерминизма
Одной из мифологем является мифологема контекстуального детерминизма. Роль контекста в создании (грамматического) значения трудно переоценить. В то же время контекстуальный детерминизм идёт дальше. Большинство учебных грамматик и сборников упражнений следуют некоему уравнению, жестко задающему соотношение контекста и «выбираемой» под его влиянием формы: CONTEXT А → FORM А. Авторы как бы предполагают, что тот или иной контекст «заставляет» пользователя языка выбирать ту или иную предопределённую этим контекстом форму.
Наиболее типичным упражнением, практикующим подобное «уравнение», является упражнение типа ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ или РАСКРОЙТЕ СКОБКИ. Предполагается, что обучающийся должен ответить на контекстуальные стимулы реакцией в виде «соответствующей» формы. Иногда условия решения уравнения ставятся менее жёстко, допуская варианты, но тем не менее, контекст в такого рода упражнениях всегда заранее задан. Судя по многочисленным интервью с обучающимися, у многих действительно складывается впечатление, что можно составить некую «таблицу контекстов и форм», которая будет подсказывать «правильное» употребление.
Первый аргумент, разрушающий детерминистическую мифологему, носит чисто логический характер. Зададим вопрос: Кто же, собственно, является автором контекста? А автором как контекста, так и «предопределяемой контекстом» формы является сам говорящий. В реальности языковой деятельности контекст никогда не задаётся заранее говорящему какими-либо внешними силами, а создаётся им самим в конкретное время и в конкретных обстоятельствах (а к тому же и в конкретном настроении и т. п.).
Однажды студенты спросили: а как правильно I study English или I am studying English? I finished my work, and then I went for a walk, или I went for a walk after I had finished my work? Подобные вопросы повторялись многократно, при этом задававшие непременно хотели знать «как правильно». Небольшое размышление, в том числе и над родным языком, приводило большинство из них к выводу, что вопрос правильности в данном случае просто неуместен. В дальнейшем выяснилось, что одинаково правильными могли бы быть и другие фразы I have studied English и I have been studying English или какие-то ещё. Более того, они могут быть сказаны об одном и том же человеке, об одном и том же его действии и даже в одних и тех же обстоятельствах. Разница между ними будет не столько в реальных параметрах обозначаемых действий, сколько в намерениях говорящего (в его интенции). Упражнения в таких случаях тренируют разницу по контексту и создают у обучающихся впечатление, что они имеют дело с реальной разницей действий, а не представлений о них говорящего.
Ещё один типичный пример упражнения, основывающегося на пресуппозиции контекстуального детерминизма: I wrote five letters yesterday morning. – And this morning? – I (write) only four letters this morning. Носитель языка и хорошо владеющий языком иностранец вполне могут употребить форму -ed и с this morning. Обучающийся же вынужденно сужает свой кругозор. Ответ, который должен был бы дать «хороший» студент, разумеется: I have written only four letters this morning, а вывод, который получился у студентов: «Никогда не используй форму на -ed с this morning».
Из интервью со студентами становилось ясно, что они считают грамматику набором правил, строго предписывающих, что именно употребить в каждом конкретном контексте. Просили даже составить табличку: с одной стороны адвербиальный детерминант (always, например), с другой – глагольные формы, которые считаются «правильными» в этом случае, то есть по школьному типу «жи-ши пишется с буквой и». Но такая таблица в принципе невозможна! Во-первых, контекст никогда не заставляет употреблять форму глагола: always может употребляться не только с Present Simple: I always write letters in the evening, ср. I have always written letters in the evening, I have always been writing letters in the evening, I’ll always write letters in the evening и т. п. Разумеется, смысл при этом меняется, но контекст не заставляет употреблять форму, скорее смысл появляется из взаимодействия контекста и формы, автором же взаимодействия является сам говорящий, никакое «правило» не предписывает ему употреблять форму в зависимости от контекста, как это тренируется в упражнениях типа «раскройте скобки». Единственное общее правило, общий принцип, который прослеживается в действиях говорящего: это соотнесение употребляемого грамматико-контекстуального комплекса с собственным намерением, интенцией, с одной стороны, и предполагаемым или желаемым пониманием, интерпретацией, выводами (инференцией) слушающего, с другой. Недаром носители языка часто не могут выполнить тест, предназначенный для иностранца: для его выполнения надо владеть «тестовой мифологией», знать «как надо» выполнять тесты, знать, чего хочет от вас автор теста. От реальной языковой деятельности всё это очень далеко.
Но языковая реальность, к счастью и не настолько пессимистична (когда всё «расписано по строгим правилам»), а оставляет носителю языка и учащемуся простор для творчества. В целом, видимо, справедливо сказать, что нет предписывающих контекстов, есть только запрещающие, но даже и такие запреты нарушаются, если того требует интенция говорящего. К примеру, в английском языке ago не принято считать сочетающимся с Present Perfect. И в то же время таких примеров много не только в разговоре, но и в художественной литературе, они проникли даже в некоторые исследовательские работы, но – не дальше; в описательных и учебных грамматиках их не найти: Я давно простил; англ I have forgiven you long ago (перевод из Л. Н. Толстого); Have some tea. – No, thank you, but you go on having yours. – I’ve finished ages ago (I. Murdoch).
Что же происходит с учениками, когда после грамматики они оказываются in the real world. Фрустрация, аллергия и т. п. отрицательные реакции, которые можно встретить в ряде анкет и интервью. Около 80 % обучающихся считают основной причиной нежелания говорить на иностранном языке «боязнь совершить ошибку». Ср. аналогичные ответы в финских интервью: it was this error-hunting that made me mad, I feel a complete zero whenever somebody continually watches over me – waiting for me to make a mistake; yes, it did that to me, the instruction during my school years, that I am still in a terror whenever I have to speak a foreign language (Dufva 1994: 39-40).
Но и упражнение типа «раскройте скобки» можно сделать по-другому, если предложить множественный выбор с изменением параметров контекста. Иначе получается, что обучающийся никогда не будет иметь дела с собственной языковой деятельностью. Ему всегда придётся читать чужой текст, догадываясь, о чем думал его автор в тот момент, когда его сочинял.
Рассмотренные мифологемы не исчерпывают весь возможный список. Возможно, с ними не всегда можно и нужно «бороться», скорее их следует знать и принимать во внимание, а может быть и использовать. Но одно ясно: необходим курс лингвистического просвещения, пропедевтический курс отношения к языку и обращения с языком.
5. Слово в научном и бытовом познании
Текст данного раздела появился как рецензия на книгу украинского учёного Михаил Лабащука «Слово в науке и искусстве: научное и художественное осмысление феноменов вербального мышления» (Лабащук 1999). Тематика книги оказалось достаточно интересной и плодотворной, что позволило, помимо собственно рассмотрения взглядов автора, поразмышлять на тему соотношения языка и познания в разных его видах: научного и обыденного, научного и художественного и т. п.
Хотелось начать со слов: появление книги М. С. Лабащука «на исходе XX века» не случайно. Можно скептически воспринимать неумеренный пафос публикаций, эксплуатирующих мифологему временнóй границы, но все же именно конец двадцатого века связан с оживлением интереса к вне-научному познанию. Впрочем, начало уходящего столетия также было отмечено осознанием кризиса науки, потери связи науки с реальной жизнью человека в окружающем его мире – Weltleben, по Э. Гуссерлю (Husserl 1970: XL-XVI), или, по крайней мере, с методологическим осознанием необходимости такой связи. А если вспомнить изыскания в области методологии науки в предшествующие века и именно в плане соотношения обыд… Продолжение »