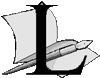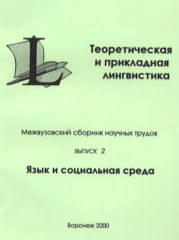В.Б.Кашкин (Воронеж)
Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания (часть 2)
В статье на материале протонаучных взглядов наивных пользователей и истории лингвистических учений рассматривается формирование основных понятий, связанных с межъязыковыми контрастами (монолингвистический и полилингвистический подход).
The article studies the genesis of major concepts related to interlingual contrasts (monolinguistic and polylinguistic approach). The author bases upon proto-scientific views of naïve language users as well as on the history of linguistic thought.
Первая часть статьи опубликована в сборнике: Теоретическая и прикладная лингвистика: Межвуз. сб. научных трудов. Вып. 1. Проблемы философии языка и сопоставительной лингвистики / В.Б.Кашкин (отв. редактор); Воронеж. гос. техн. ун-т; Воронеж, 1999. С. 4-31. См. первую часть
9. Идеи Вильгельма фон Гумбольдта в современной лингвистике. Как писал Эрнст Кассирер, идеал философской универсальной грамматики был уже к началу XIX века ‘слегка нарушен’ (ein für allemal zerstört) вследствие появления научного сопоставления языков. Дискретность эмпирии затем все более входила в противоречие с идеальной полилингвистической синтетической теорией [Cassirer 1923: I, VI]. Введение параметра наблюдателя (или, говоря современным языком, пользователя) с разных позиций осуществляется в рамках психологических грамматик: в работах Вундта, Штейнталя, Потебни, Марти [Steinthal 1871; Потебня 1993(1913); Funke 1924 и др.].
В современном языкознании это происходит в рамках функциональной грамматики, понимаемых как грамматика выбора, активнгая грамматика или грамматика говорящего [Winograd 1985; Halliday 1985; Бондарко 1987; Норман 1994 и др.]. Следует заметить, что в полной мере грамматику, ориентированную на субъекта языковой деятельности, являющегося единственным невиртуальным, телесным речедеятелем, уместнее было бы назвать грамматикой пользователя языка: ведь диалог речедеятелей включает в себя не только речетворчество, но и интерпретацию. Пафос же поворота к ‘грамматике говорящего’ объяснялся тем, что в классической и структурной лингвистике анализу подвергался не столько процесс интерпретации, сколько интерпретируемый продукт. Именно потому, что анализ текста, то есть препарирование ‘лингвистического трупа’ и продуктов его жизнедеятельности, преобладал над анализом собственно языковых процессов, и возникла необходимость в противопоставлении этому функционального подхода. Видимо, подобное противоречие наблюдалось и раньше. Иногда последние два века в истории лингвистической и вообще гуманитарной мысли представляются как смена парадигм: классическая описательная – психологическая – структуралистская – антропоцентрическая. Не отрицая подобного подхода, все же следует отметить, что в XIX-XX вв. и антропоцентрическая, и системоцентрическая парадигмы существовали физически одновременно. Их параллельное развитие выводило на передний план то один, то другой подход. С точки зрения ‘совокупного мирового разума’, субъект следовал различным сторонам и проявлениям изучаемого объекта.
К XX веку определенный изоморфизм языкового, интеллектуального и материального мира уже не понимается детерминистически, чему способствуют и семиотические исследования, ведь ‘семиотический изоморфизм’ – вовсе не одно-однозначное зеркало, как воспринималось и воспринимается иногда соотношение мира, интеллекта и языка в протонаучной эйдетике. Семиотический изоморфизм – диалектическая игра двух противоположных принципов, один из которых в народной эйдетике выражен поговоркой Хоть горшком назови, только в печку не сажай. Этот принцип связан с пониманием – или ощущением – принципиальной немотивированности языкового знака, с пониманием отсутствия материальных последствий номинации. Второй принцип, напротив, связан с конкретной мотивировкой внутренней формы знака обозначаемым предметом, точнее ментальным восприятием одной из его сторон, феноменом. Мотивированность знака может быть множественна уже благодаря наличию разных сторон у предмета или понятия. Отсюда вытекает и потенциальная множественность способов обозначения, а далее – множественность систем таких способов, наконец, систем систем таких способов, т.е. языков. Феноменология, таким образом, позволяет связать воедино две стороны языкового знака, а также и два основных принципа семиотической деятельности человека. Могут быть связаны воедино континуальность внешнего мира и дискретность множественных средств его обозначения.
9.1. Парадигма Гумбольдта. Диалектичность в понимании основных принципов устройства и функционирования языка и языков свойственны человеку, с именем которого справедливо связывается само начало современной лингвистики как науки, идеи которого оказали огромное влияние на лингвистику XX века – может быть, в еще большей степени, чем на его современников – но до конца еще не раскрывшегося для лингвистики и до сих пор. Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835) называли иногда ‘Гегелем языкознания’. Часто цитируется высказывание Густава Шпета о том, что «философия языка Гумбольдта призвана завершить собою систему философии Гегеля» [Шпет 1927: 30], хотя влияние собственно Гегеля на Гумбольдта находилось, видимо, лишь в рамках общей атмосферы того времени. А вот идеи Канта влияли на Гумбольдта значительно именно в концептуальном плане. По мнению Гурама Рамишвили, кантианское влияние на Гумбольдта связано с перенесением акцента с внешних явлений на внутренние, глубинные, трансцендентальные и с преодолением ‘наивного реализма’ [Рамишвили 1984: 25].
Ряд основных идей Гумбольдта оказал и продолжает оказывать влияние на формирование современной парадигмы общей (универсальной) грамматики. Гумбольдт указывает на самодеятельный, непроизвольный характер языка как эманации духа, уходя при этом от эйдетической наивности как φύσει так и θέσει – к понятию Selbsttätigkeit. Последователь Канта и Гумбольдта, Эрнст Кассирер, пишет, что система языка и духа подчиняется закону диалектики, внутреннему ритму в самодвижении понятия, бытие может быть осмыслено только через действие [Cassirer 1923: I, 11-15]. Язык, как продукт языкового самобытного сознания нации (Wirkung des nationellen Sprachsinns) – внутренне цельный организм, и изучение этого организма как такового требует не только исторического подхода. В современной науке такой подход получил название системного (в более урезанном варианте – структурного).
9.2. Концепция аутопойесиса Умберто Матураны. В ряде работ лингвистов (и не только лингвистов) понятие системности и внутренней деятельности самой системы объединяется в единую концепцию, как, например, в работах чилийского биолога Умберто Матураны, рассматривавшего деятельность биологических организмов как деятельность языковую, а также его последователей в лингвистике и теории искусственного интеллекта – Ф.Барелы, Ф.Флореса, Т.Винограда, отчасти Х.Зайлера и др. Язык, в соответствии с концепцией Матураны, может быть отнесен к числу ‘автопоэтических’ процессов, равно как и мышление (автопоэтический = самоварьирующий и самосоздающий), в чем некоторые исследователи предлагают видеть реформирование гегелевской концепции мышления как автофункционального процесса [Hasenclever 1990: 124-125; Peschl–Wallner 1990: 366]. Бельгийский исследователь лингвофилософских проблем Коэн Депрейк идет еще дальше: автопоэтические процессы, по его мнению, присутствуют не только в биологии или в языке, но и во всем мире. Депрейк соотносит понятие аутопойесиса со своим понятием автореферентности (self-reference), споря с концепцией уникальности лингвистического поведения человека. По его мнению, существуют и предыдущие уровни развития, обладающие меньшей степенью сложности (preceding levels of complexity) [DePryck 1993: 114-116].
Говоря о сущности языка и разнообразии языков, Гумбольдт указывает на ‘решающее обстоятельство’ в устройстве любого языка: «в языке каждого народа наличествует некая совокупность идей, соответствующая безграничным возможностям способности человека к развитию и отсюда без всякой помощи извне можно черпать все, в чем испытывает потребность человек» [Гумбольдт 1984(1830): 57]. Это высказывание сравнимо с определением автопоэтической (языковой) системы как сети процессов, которая (система) способна сама порождать свои составные части, подключающиеся, в свою очередь, к этой же системе [Peschl–Wallner 1990: 366].
Разнообразие языков – другая сторона их своеобразия. Выделение трех взаимодействующих миров в ряде концепций в современной лингвистике – Welt der Dinge, Welt des Bewußtseins, Welt der Zeichen [Peschl–Wallner 1990: 372] – то есть, мира материального, мира идеального и мира семиотического, в продолжение идей Лейбница и Канта о Zwischenwelt и других подобных концепций, соотносится с тем, что Гумбольдт пишет об «акте превращения мира в мысли, совершающийся в языке» [Гумбольдт 1984(1830): 67] – здесь добавлен еще и динамический аспект. Определяющим принципом для различия языков является ‘духовная сила народа’ или ‘способ, каким языки решают главную задачу всякого языкотворчества’ [Там же, 70], который и действует в данном акте превращения. Существенным совпадающим моментом у Гумбольдта и у Матураны является признание за языком характера процесса, как приоритетной характеристики, по отношению к результату, произведению, продукту: «Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung)»; «Язык есть не продукт деятельности (έργον), а деятельность (’ενέργεια)... Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» [69-70].
9.3. Деятельность и посредничество. Вслед за Гумбольдтом принцип творческой процессуальности (schöpferische Kraft des Zeichens) и концепцию языка как посредника подхватывает и Эрнст Кассирер, взгляды которого также оказали существенное влияние как на лингвистику, так и на другие семиологические науки в двадцатом веке. Язык, знак, по Кассиреру, не просто отображает внешний мир, но осуществляет свою собственную переработку и представление (eine eigentümliche bildende Bearbeitung und Darstellung), снимая напряжение между субъектом и объектом через сотворение нового, промежуточного мира (ein neues mittleres Reich). Но свобода этого творения не безгранична, Кассирер отмечает, что после разграничения мира и я новый промежуточный мир знаков для сознания предстает, как новая объективная реальность, управляемая природной необходимостью (die naturhafte Notwendigkeit) [Cassirer 1925: II, 31-32; 1929: III, 59-60].
В связи с понятием энергейи у Гумбольдта, может возникнуть недоразумение по поводу термина ‘деятельность’ при соотнесении его с известной дихотомией язык/речь и трихотомией язык/речь/речевая деятельность. Такое недоразумение может возникнуть при абсолютизации понимания языка как замкнутой статической системы, являющейся дискретизируемым продуктом, или совокупностью атомарных продуктов. Разумеется, для определенных теоретических и практических задач такая абстракция вполне плодотворна. Однако всегда следует помнить, что в исходной реальности ни языка, ни элементов его не существует в том привычном смысле, в каком существуют предметы (запись текстов в расчет всерьез приниматься, конечно же, не может). Даже и в головах индивидов нет языка, как, впрочем, нет там и мышления, также как нет в ногах – бега, прыжков, в теле – танцев и т.п.
Склонность рассматривать изучаемый объект как вещь, реификация (от лат. res ‘вещь’) объекта свойственна человеческому сознанию с первобытных времен. Первобытное мышление вообще не разделяет слово и вещь, откуда и происходит вера в магическую силу слова. В современном же научном мышлении этот неизбежный рудимент (неизвестно, впрочем, можем ли мы без него обходиться) проявляется в так называемом ‘вещизме’ (фр. chosisme от chose ‘вещь’), вещеподобном, мифологемном представлении о виртуальных абстрактных объектах. Термин введен в обиход французским философом Гастоном Башляром, размышлявшим о судьбах науки, в первую очередь, физики в первые десятилетия XX века [Bachelard 1984(1927)].
Соссюр безусловно был прав в том случае, когда утверждал, что в языке нет ничего, кроме отношений. Уместно вспомнить аналогию Соcсюра, сравнивавшего язык с шахматной игрой [Cоссюр 1977: 120-122; Shapiro 1985: 97-98]. Есть, однако, существенное различие между ними: в шахматах ходы и правила их совершения были все же кем-то придуманы, хотя память об этом утрачена, как и в случае народной песни. А кто придумал правила в языке? Кроме того, шахматы – система для того, чтобы играть (самоцель системы), у языка же помимо внутренних целей есть и внешние, например, организация индивидуального и коллективного опыта, и эти последние (цели) – первичны. К словам Соссюра следует добавить из Гумбольдта: в языке нет ничего, кроме отношений между процессами, функциями, типами поведения, patterns of activity (термин Т.Винограда). Кроме того, различие между activity и pattern of activity также достаточно существенно. Говоря о том, чем различаются вальс и танго, мы причисляем их к типу ‘танцев’ (activity), различаются же они между собой как раз своими patterns, ‘правилами’, сеткой, матрицей процесса. Весьма примечательна интерпретация соссюровского понимания знака одним из создателей теории катастроф, математиком Рене Томом: означаемое или смысл приписывается означающему – морфологическому процессу (звуковому в случае речи и пространственному и линейному в случае письма) [Том 1975(1970): 200].
Близка к такому пониманию языка и мысль Анри Делакруа, последователя Соссюра, но пошедшего ‘другим путем’: язык существует, но – так же, как существует религия или искусство; говоря о жизни языка, мы пользуемся абстракцией, язык живет в человеке и в человеческой группе [Delacroix 1930(1926): 140, 186]. По мнению одного из последователей Хомского, К.Векслера, не может быть даже самого понятия E-language (экстенсиональный язык), I-language (интенсиональный язык) же представляет собой множество принципов и представлений в мышлении [Wexler 1993: 218-219]. Сам же Ноам Хомский (Чомски) скептически относится к идее считать «слова и морфологические категории несуществующими в материальном мире», при этом тем не менее неоднократно подчеркивает, что язык – не более, чем генеративная процедура. Владеть языком, по Хомскому, значит владеть способом говорения и понимания, генеративной процедурой, представленной в сознании, в мозгу человека [Chomsky 1993: 35-43]. Выдвигая свою собственную антиномию, вместе с антиномией Соссюра или параллельно ей, Хомский подходит ближе именно к гумбольдтианской парадигме: его competence, противопоставленная performance, более креативна, динамична и интуитивна, чем langue [Forrai 1990: 122-125; Bourdieu 1991]. Кроме того, это неразделимые понятия и, как пишет Кинэн, это – два полюса одной шкалы, а не взаимоисключающие категории [Keenan 1987: 28].
«Деятельность есть познание и познание есть деятельность» (All doing is knowing and all knowing is doing). [Maturana–Varela 1988: 26]. Понимая язык как матрицу саморазворачивающегося процесса, мы не должны путать его с речевой деятельностью как конкретной реализацией этого процесса [Гумбольдт 1984: 71-72]. С другой стороны, как писал Роман Якобсон, приравнивание έργον = langue и ’ενέργεια = parole является одной из опаснейших ошибок, встречающихся в лингвистических теориях XX века. Как langue, так и parole – в одно и то же время и έργον, и ’ενέργεια [Jakobson 1990: 108]. Для Л.В.Щербы также нет непроходимой границы между системой языка, речевыми произведениями и речевой деятельностью [Щерба 1931: 114-115]. Речевая деятельность – языковая система в процессе действия, функционирования, производства и восприятия речевых произведений. Собственно это – единственная реально существующая данность (процесс, но не вещь). Продукт же деятельности – речевые произведения существуют не одномоментно, но только во временной развертке. Даже тексты – всего лишь программа возможной временнóй развертки речевого произведения при его чтении пользователем. Ролан Барт безусловно прав, говоря о многократности чтения и неокончательности интерпретации текста: читающий создает свой текст по наметкам автора, причем всякий раз заново [Барт 1994: 13-15]. ‘Правила’ же, по которым может разыгрываться текст, как партитура, и есть язык: рекуррентно повторяющаяся сетка процессов.
9.4. Единство и многообразие. Понятие единства, связанное либо с происхождением, либо с единством логического субстрата, уступает место понятию единства языка как системы, чьи отдельные дискретные члены (einzelne Glieder) взаимообусловлены именно своим различием и разнообразием [Cassirer 1923: III, 7]. На первых порах восприятия идей Гумбольдта это обусловило некоторый монолингвистический ‘крен’ в ряде работ, опиравшихся на его концепцию. Но в 50-х годах XX века вновь была возрождена идея универсалий. В целом же, ‘парадигма Гумбольдта’ до конца еще не развернулась в лингвистике. Этому во многом способствовало и господство позитивизма как ‘религии точных наук’. Позитивистский уклон в науке XX века сослужил определенную службу, как ‘совесть’ науки, но излишний позитивизм привел к потере ее телеологической ориентации (науки в целом, а не в смысле конкретных единиц), привел к кризису в современной науке, потере ею ‘души’ – души вовсе не в мистическом смысле, а в смысле диалектической составляющей ‘объективного факта’.
Разумеется, ‘на самом деле’ трех миров – мира вещей, мира идей и мира знаков – не существует, границы этих миров и само их выделение уже являются консенсуальным допущением. Мы группируем какие-то явления и свойства для удобства сравнения различий и установления ‘индивидуальности языка’, которая «является таковою только в сравнении этого языка с другими, тогда как подлинной индивидуальностью наделен лишь конкретный говорящий» [Гумбольдт 1984: 84]. Сравниваться же и взаимодействовать индивидуальные языки могут лишь благодаря общей основе, «весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим языком», в речевой деятельности же эти две крайности, индивидуальное и общее, соединяются [Там же: 77]. Гумбольдт здесь выходит за рамки ‘индивидуалистического субъективизма’, противопоставляемого ‘абстрактному объективизму’ [Волошинов (Бахтин) 1993(1929): 52-55].
Как пишет Коэн Депрейк, язык является такой же смесью единства и различий, как и природа, как весь мир вообще. Коммуникации требуется общая основа, и в то же время ей требуется достаточное разнообразие, чтобы быть интересной [DePryck 1993: 42]. Общее и отдельное в языке и языках, таким образом, получает телеологический общий знаменатель, замыкаясь на человека (индивида и совокупного индивида). Идея отдельного и общего в языке и языках связана и с тем, что язык – в первую очередь (а онтологически – исключительно) – явление индивидуальное. Как же, собственно, осуществляется связь, взаимовлияние и деятельностное взаимослияние индивидуальных систем? Без этого невозможны ни коммуникация, ни обучение. Гумбольдт пишет: «... способность к языку может... развиться при поддержке первого попавшегося индивида. Развитие это, тем не менее, совершается внутри самого человека... оно по необходимости уподобляется как раз тому внешнему влиянию, какое испытывает, причем может ему уподобляться ввиду сходства всех человеческих языков» [Гумбольдт 1984, 79]. Созвучно этой и ряду других идей Гумбольдта и определение основной функции языка Матураной: «Основной функцией языка является не передача информации или описание независимого мира, о котором мы можем говорить, но создание консенсуальной сферы поведения (consensual domain of behavior) между лингвистически взаимодействующими системами путем выработки (development) кооперативной сферы взаимодействий» [Maturana 1978: 50]. Здесь сразу же приходит на память термин М.М.Бахтина ‘общая территория’ и, в связи с этим, различие принципов структурализма и диалогизма [Волошинов (Бахтин) 1993: 183]. И Гумбольдт, и Бахтин, и Матурана приходят, каждый по-своему отказываясь от атомизма и статичности либо традиционной науки о языке, либо классической общей теории систем, к идее динамического сотрудничества относительно замкнутых автопоэтических систем. Депрейк называет такие системы ‘внутренне открытыми’; эта открытость, это движение поддерживается внутренней парадоксальностью языка [DePryck 1993: 154].
Сопоставление, контраст индивидуальных (и социальных) языковых систем происходит и при переводе, и при обучении языку, и, в принципе, в любом речевом акте. Именно в ситуации контраста обнаруживаются различия. Консенсуальная метасфера (Konsensuelles Metabereich) образуется и при взаимодействии интеллекта и мира (это и есть собственно язык, как посредник), и при взаимодействии двух языков отдельных индивидов-пользователей (взаимное уподобление, резонанс). Примечательно сделанное Гумбольдтом сравнение индивидуального языкового воздействия на язык народа с волнами от брошенного в воду камня. Метасфера образуется как при научном, так и при наивном целенаправленном сравнении разных языков. Как пишет Умберто Матурана, при коммуникации двух наблюдателей определяется метасфера взаимосвязанных различий, которая работает на взаимную ориентировку деятельности в рамках этой соединенной, спаренной (coupled) метасферы, что является не денотацией, но коннотацией. Еще раз вспомним Ролана Барта, также утверждающего, что денотация вовсе не является главным и существенным в языке, денотация, по Барту, – лишь последняя из возможных коннотаций [Барт 1994: 19]. Описанный процесс взаимной ориентировки деятельности, а в конечном итоге и понимания, является функцией когнитивной сферы ориентируемого, но не ориентирующего [Maturana 1970: 53].
Положение о трех мирах, деятельностном характере языка в процессе дискретизации континуума действительности разделяет и В.С.Юрченко: «Язык есть процесс (и результат) структурации человеческим сознанием предметно-признакового континуума мира на оси реального времени» Добавляя время (=линейность), В.С.Юрченко, вслед за М.М.Бахтиным, признает пограничный характер языка: «Границами языка... являются человек – действительность – реальное время». Юрченко называет эту триаду векторами, хотя скорее следовало бы говорить об иерархических континуумах бóльшей размерности, но в концепции Юрченко имеется и оговорка о различении поверхностной и глубинной линейности [Юрченко 1995, 15-18].
9.5. Континуальность и дискретность в современной лингвистике. Представляет достаточный интерес рассмотрение разработки идеи континуальности и дискретности, а также их соотношения в языках, в той части современной лингвистики, которую принято называть ‘математической’ (или алгебраической, инженерной, кибернетической, квантитативной [ср. Пиотровский 1979: 5; Арапов 1988]). В ряде работ представители этого направления выходят за рамки прикладной математики, предлагая решения общеметодологических вопросов, связанных, в конечном счете, с фундаментальной философской категорией меры.
Именно благодаря усилиям математики (и математической лингвистики) обнаружилось, что попытки уместить язык в прокрустово ложе ‘правильной’ позитивистской науки, оперирующей дискретными понятиями, в бытовом идеале аналогичным простым числам, в значительной мере упрощает и искажает сущность языковых процессов. В противовес механистическим системам, допускающим описание в рамках дискретной математики, языковые (и шире – гуманистические) системы - в терминологии Л.А.Заде – требуют особого, лингвистического подхода и в рамках математики. После появления работ математика Л.А.Заде о лингвистической переменной и нечетких множествах, лингвистическая, интерпретационная модель, учитывающая субъективную меру [Заде 1976(1973): 13], т.е. позицию включенного наблюдателя, проникла в математику; и наоборот, концепция нечетких множеств (fuzzy sets) и лингвистической переменной (linguistic variable) стала использоваться в языкознании. В образовавшейся сфере консенсуального взаимодействия появилась возможность сближения детерминистического и релятивистского подходов [Лесохин, Лукьяненков, Пиотровский 1982: 247], по-новому зазвучали идеи Гумбольдта о динамическом, энергейном характере языка [Пиотровский 1979: 101].
Возникновение проблемы непрерывности/дискретности в связи с составляющим сущность математической парадигмы общеметодологическим понятием меры в отношении наблюдаемых исследователем лингвистических объектов предопределено двумя ‘объективными’ противоречиями: столкновением континуальности реального мира и дискретности индивида, его дискретных действий в этом мире, с одной стороны, и асимметрией дискретного плана выражения и континуального плана содержания, с другой [Пиотровский 1979, 45, 101]. Дискретность плана выражения не является его имманентным свойством, завися опять же от позиции наблюдателя: с точки зрения семантических пространств, дискретные единицы разрезают их континуальность; в точки зрения идиолекта, семантика языковых единиц проста и неразложима, разложимость появляется только в ситуации контраста. Кроме того, даже материя фонематических оппозиций берется из фонетико-физиологического континуума (термин Ельмслева), становясь дискретной только в процессе семиозиса, в семиотической деятельности человека. Хотя данная проблема решалась по преимуществу на материале лексических единиц и их множеств (синонимических рядов типа <возраст>, <внешность>, <рост>, <истина>, <вероятность> и т.п. [Заде 1976(1973): 8, 10-11; Шабес 1989: 23-32]), свойства нечетких лингвистических множеств могут быть экстраполированы на любой уровень языка, любой диалект или социолект, на язык в целом [Пиотровский 1979: 45].
Сходства и различия языков (и грамматических единиц в рамках одного языка или грамматической подсистемы) также могут быть описаны в терминах нечеткой логики и лингвистических переменных. Габриель Альтманн и Вернер Лефельдт считают, что при построении общей типологии языков отдельное свойство, являющееся основанием для сравнения языков, может быть рассмотрено как переменная, которая реализуется различным образом в разных языках [Altmann-Lehfeldt 1972: 65]. Такой семантической переменной могут служить, например, <презентный перфект> и <неопределенный артикль> [Кашкин 1991: 1997].
Во-первых, само понятие сходства (в отличие от эквивалентности в ‘четкой’ детерминистской логике) в данном случае интерпретируется через отношение толерантности, для которого, как и для ‘четкой’ эквивалентности, свойственны симметричность или взаимозаменяемость и рефлексивность или самоидентичность, но которое, в отличие от отношения эквивалентности, не характеризуется транзитивностью (что, в частности, приводит к ограничению сочетаемости) [Пиотровский 1979: 36-40]. Возможно, именно толерантная организация лингвистических множеств и позволяет им объединять разнообразное в едином: варианты одной фонемы, диалекты одного языка, отдельные языки как варианты или диалекты трансцендентального универсального инварианта. Во-вторых, потенциальная бесконечность (как от 1 до , так и от до 1, то есть, до точки границы) толерантных лингвистических множеств приводит к нечеткости, размытости их границ, а также к динамике соотношения центра и периферии [Пиотровский 1979: 41-44].
Подобный подход разрабатывается и в ‘чистой’, нематематической лингвистике, в особенности в период после отказа от ортодоксального атомистического, дискретно-ориентированного структуралистского подхода. Иногда в лингвистических работах эксплицитно указываются параллели с математикой, упоминается концепции нечетких множеств [Altmann-Lehfeldt 1973: 68; Шабес 1989: 21-23]. Впрочем, говорить об использовании математической концепции в лингвистике можно с тем же основанием, что и об использовании лингвистического подхода в математике (Л.Заде).
Понятие континуальной градации перехода и толерантного объединения разноуровневых элементов можно поставить в параллель теории функционально-семантических полей (A.В.Бондарко) и лингвистических континуумов (Х.Зайлер), а вне сферы грамматики - концепции лексических полей Й.Трира и уже упоминавшегося градуального эталона в модели событие/текст В.Я.Шабеса.
Признание же континуальности реальной действительности, мышления и семантических пространств, основных когнитивных категорий как кластеров воспринимаемых признаков в концепции прототипов [Налимов 1978, 2000; Пиотровский 1979: 54; Rosch 1978: 35] требует дальнейшего философского осмысления с учетом позиции наблюдателя, т.е. принципа комплементаризма, дополнительности по Н.Бору [Бор 1961]. Мышление континуально по отношению к дискретным знакам, которые использует субъект для экстериоризации сво