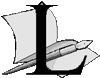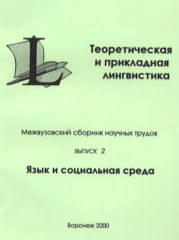С.Г.Воркачёв, Г.В.Кусов (Краснодар)
Концепт 'ОСКОРБЛЕНИЕ' и его этимологическая память
В статье рассматриваются инвективы в лингвоэтнокультурном аспекте, приводится их этимологический анализ.
The article analyses verbal insults in their cultural and etymological aspects.
Слово ‘концепт’ [Лихачев 1993; Арутюнова 1999: 543-640; Степанов 1997: 40-76; Нерознак 1998; Ляпин 1997 и др.] и его протерминологические аналоги ‘лингвокультурема’, [Воробьев 1997, 44-56] ‘мифологема’ [Ляхтеэнмяки 1999], ‘логоэпистема’ [Верещагин-Костомаров 1999: 7] и др. стали активно употребляться в российской лингвистической литературе с начала 90-х годов. Пересмотр традиционного логического содержания концепта и его психологизация объясняются, в том числе, и потребностями когнитологии, в частности, когнитивной лингвистики, сосредотачивающей внимание на соотнесении лингвистических данных с психологическими. Оперирование категорией понятия в классическом, ‘безóбразном’ представлении оказалось для когнитивистики явно недостаточным. Однако основным признаком, отделяющим лингвистическое понимание концепта от логического, является его закрепленность за определенным способом языковой реализации.
Из признания концепта планом содержания языкового знака следует, что он включает в себя, помимо предметной отнесенности, всю коммуникативно значимую информацию. Прежде всего, это указания на место, занимаемое этим знаком в лексической системе языка: его парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи - то, что Ф.Соссюр называет ‘значимостыо’ и что, в конечном итоге, отражает «лингвистическую ценность внеязыкового объекта» [Карасик 1996: 4], проявляющуюся, в соответствии с законом синонимической аттракции, в семантической плотности той или иной тематической группы, соотносимой с концептом. В семантический состав концепта входит также и вся прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной и иллокутивной функциями, что вполне согласуется с ‘переживаемостъю’ и ‘интенсивностью’ духовных ценностей. Еще одним, факультативным, но, тем не менее, высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является ‘этимологическая’, она же ‘культурная’, она же ‘когнитивная память слова’ – смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением, национальным менталитетом и системой духовных ценностей носителей языка [см.: Яковлева 1998: 45; Апресян 1995, Т.2: 170; Телия 1996: 230].
Концепт ‘оскорбление’, как проявление вербальной агрессии [Жельвис 1990: 7], формально включает в себя всю гамму эмоционально-оценочной лексики в форме вокатива или аллюзии. Однако только инвективное словоупотребление содержит в своем выражении пограничные понятия непристойного и запредельного с точки зрения норм общепринятого поведения. Но если инвективный узус определяется как когнитивная модель поведения человека, то ‘оскорбление’ – это речевая номинация самого действия, обусловленного факторами, имеющими целью изменить межличносные отношения обозначенным намерением. Иначе говоря, оскорбление – это акт, при помощи которого достигается доминантное положение личности.
Эффективность, реализуемая при использовании в речи инвективов, объясняется древностью этого лексического слоя и его относительной стойкостью в сознании человека.
Оскорбление – это вербальная агрессия, осуществляемaя с помощью обвинения оппонента в нарушении им норм национально-культурного поведения, пренебрежении определенными культурными ценностями. Огромный дописьменный период развития инвективного общения у человечества привел к ограниченности употребления здесь видо-временных форм, однообразию парадигматических рядов и ограничению тематики.
Этносемантическое ядро концепта ‘оскорбление’ в русском языке или вообще в индоевропейских языках, складывалось постепенно под влиянием этногенеза социальных отношений, этнокультурных изменений семасиологических единиц в мифоэпической религиозно-описательной картине мира, статусообразующего развития права как отрасли, регулирующей допустимость проявления воли под угрозой применения наказания.
Сравнительная характеристика концепта ‘оскорбление’ в сфере символических понятий, позволяет выявить рад закономерностей в рамках отдельно взятого слова и воссоздать функционирующую языковую картину мира через мир ассоциативных образов, «логику и величие древних концепций мира, характер поведения людей, их символы и религиозные системы» [Элиаде 1994: 13].
Согласно индоевропейской мифоэпической традиции, семантическое наполнение концепта ‘оскорбление’ в современном понимании сближается с древним понятием магического заговора. У древних язычников возложение на алтарь жертвенного животного и последующее произнесение молитвы означало дар по обету, дар Верховному, образное движение к центру Мироздания при положительных коннотациях (заклятие), либо же отлучение и перемещение от центра Мироздания при отрицательно окрашенных коннотативных значениях (проклятие).
Слово, как творящее начало, – первопричина всего сущего, «символ создания Вселенной и бессмертия» [Маковский 1996: 54] – в древнем магическом сознании обладало могущественной силой и ассоциировалось с Пропастью, поглощающей Бездной: ср. и.-е. рек говорить, рус. ректати говорить, польск. ruch движение, нем. rücken двигаться, лат. rogus погребальный костер, могила, фр. roc пропасть, рус. рухнуть провалиться; а сам акт говорения, как магическое действие, кроме передачи знаковых единиц языка, имел общее предназначение – силовое движение: ср. белорус. мова язык, речь и лат. moveo – двигаться, проплывать, изгонять, выражать.
Лингвоэтнокультурный компонент инвектива в любом языке восходит к доисторической эпохе проторелигии и представляет собой священное проявление в каком-либо обожествленном объекте: животном, камне, дереве, холме, горе, части человеческого тела и воплощает магическое толкование, где очевидна связь преемственности амбивалентного понятия сакрального и профанного, ибо и в том и другом случае речь идет о таинственном, силовом акте, проявлении чего-то ‘потустороннего’, некоей реальности, не принадлежащей ‘нашему’ современному миру, но характеризующейся предметами, составляющими неотъемлемую часть ‘нашего’ материального мира, так как в современном восприятии языка утрачено религиозно-мифическое представление о мироустройстве и функционирование языка осуществляется, как изначально установленное явление. Так, с позиции семантического толкования вряд ли можно теперь объединить под общим смыслом англ. fish рыба, нем. Fisch рыба, фр. fichu скверный, je m’en fiche! наплевать, fichez-moi le camp! убирайтесь вон!, fous-moi la paix! оставь в покое!, va te faire foutre! пошел ты …, foutré черт побери. Однако, используя метод сравнения этнокультурной традиции родственных народов, можно воссоздать однообразную языковую картину мифоэпических культовых явлений, которые передаются одинаковыми логическими связями, включенными в семиотикy родственных языков. Данный метод позволяет выявить не этимологическое происхождение одного корня от другого, а мифоэпическое значение этнокультурных сем в группе однородных слов, взятых из близких по происхождению языков. Слово, в таком ракурсе, рассматривается, как знак, символ, семиотическая формула того или иного мифологического образа, который исходит из глубины веков [Маковский 1996: 20] и по сематическому наполнению близко сочетается с современным значением лексемы.
С точки зрения язычника, сила магического слова заключается в его божественном действии, которое осуществится, если слово, заклинание будет произнесено: ср. англ. perch окунь, зоолатрическое существо, то есть рыба-прародительница, и perish погибать; лат. periculum опасность, гибель; лат. perca окунь, зоолатрическое существо, лат. percaedo уничтожать; рус. перечить говорить, поступать наперекор. Таким образом, такая лексическая единица имеет четко определенные временные и локальные рамки употребления: церемониал, посвящение, культовый обряд, принесение в жертву, заклятие, проклятие, т.е. магическое слово может упоминаться только в случаях крайней необходимости. В повседневной жизни наименование священного предмета имеющего обиходное назначение, заменяется эвфемизмом, устойчивым оборотом, клише или отрицанием, стоящим в начале или в конце слова. Произнесение священного слова в мирской обстановке – это и есть оскорбление всего социума. Оно не имеет персонально-оценочного оттенка, но окрашено антиродовыми, антирелигиозными, святотатственными чертами, так как общим смыслом направлено против всех и, собственно говоря, произнесение в обыденной обстановке священного слова (Рыба!) – это угроза всему социуму, так как частое упоминание священного слова может ослабить его силу и таким образом погубить весь род, племя: в критический момент оно не сможет более защитить. Поэтому изначально ‘оскорбление’ – это обыкновенное использование в обиходной речи сакральных понятий.
В языческом сознании вода, как царство Рыбы–прародительницы, уравнивается с речью и могилой: ср. рус. река речь, др.-рус. рака гробница, серб.-хорв. рака могильник, склеп. По индоевропейской мифоэпической традиции было принято тела умерших спускать на горящих плотах вниз по течению реки, а собственно ритуал возведения курганов и погребения появился позже ввиду изменений трансформационной модели мировосприятия; и первоначально священная лодка являлась местом пристанища праха умершего: ср. лат. Lethe река забвения, др.-англ. lid лодка, рус. ладья лодка, нем. lodern гореть, но и нем. laden говорить, др.-англ. leod звук, рус. лад порядок, гармония, песнь; др.-англ. lieg огонь, но [Маковский 1996: 241] рус. обложить матом, то есть использовать в речи сакральные понятия культа погребения; Lethe река забвения, и.-е. leidh жидкость, серб.-хорв. ledina новь, навь – то есть загробный мир славянской мифоэпической традиции, рус. навет проклятие, предание подземным богам, нем. Lied песня, leiden страдать, др.-англ. ladian очищать от грехов.
Вода считалась первоэлементом перерождения и поэтому была священной. Древние знали о спасительной силе воды, о ее омолаживающем действии. Но с другой стороны, вода являлась наиболее частым символом бессознательного и несла в себе не только ‘Дух’, ставший водой, но и первобытный Хаос, бездну, на которую нисходит ‘Дух’, оживляя ее темные и бездонные просторы. Согласно индоевропейской мифоэпической традиции, божество создало Вселенную, разорвав Хаос своим половым членом [Маковский 1996: 76, 121]: лат. mundus вселенная, подземный мир; и.-е. moud половые органы; рус. manda половые органы, рус. мудиль, мудак ругательства; нем. munden течь, литься о воде. Поэтому, согласно представлениям язычников, вода выступает не только как спасительное, священное начало, но и как источник зла, гибели, смерти, что и соответствует установившемуся мифоэпическому правилу: божество + сексуальный символ = смерть или перерождение.
Рыба–прародительница являлась верховным божеством у язычников, о чем свидетельствуют: рус. рось вода, влага, русалка мифическая девушка с рыбьим хвостом; кельт. dag рыба, лат. deus бог, рус. дух, душа, и.-е. dhugh дух; и.-е. pauson божество [Маковский 1996: 49], но фр. poisson рыба, зоолатрическое существо, лат. piscis рыба, лат. pius посвященный богам; др.-англ. facg камбала, англ. faith вера (поскольку постоянным мотивом всех языческих ритуалов является сексуальность, становится понятным связь рыба – фаллический символ – лат. facere, facio, facto – сакральные действия; рус. работать – первоначально совершать сакральный акт; лат. futuere сакральный акт, fatum слово богов, вещее слово, англ. fike, ficken, fuck сакральный акт; и.-е. pesk рыба, рус. pesda рыба, божество, vulve, лат. do/da давать, рожать и рус. однокоренные – пескарь, пес, пещера, др-рус. пекло ад; рус. рыба: работать, пестить – сакральное, пи…деть, пи…дить – профанное проявление и пи…дец! – «рыба!», «конец!» или рус. окунь рыба, но oмуль оберег; кельт. rеb совершать сакральный акт, рус. (р)ебать, (р)ябать совершать сакральный акт, произносить, петь; рус. ребенок, нем. Erbe наследник – сакральное, рус. рябой, т. е. колдовской – профанное проявление.
Таким образом, «Рыба» – божество по индоевропейской этнокультурной традиции – дала львиную долю единиц, используемых в настоящий момент в качестве основы современного инвективного словоупотребления ряда индоевропейских языков. Кроме того, совокупность нескольких несочетаемых сакральных понятий дали могучее профанное проявление – грубость, оскорбление, мат: например, культ почитания предков и фаллический символизм, культ матери – прародительницы и сексуальный символизм. Результатом сакральных действий в древнем магическом сознании могло быть не только очищение, спасение, исцеление, но и порча, болезнь, навет на весь род: я твой род имел!, что у большинства народов воспринимается как самое грубое оскорбление: ср. рус. Род верховное божество древних славян, рус. Радоница и рожать, или позднее – культ матери-прародительницы и сексуальное главенствующее положение инвектанта. Итак, ср. рус. мать говорить, произносить, лат. muttio бормотать, фр. mot слово, англ. mouth рот, выговаривать, нем. Maul рот, орать, грубить, оскорблять, рус. молвить говорить, англ. moat яма, могила; нем. grob грубый, Grob могила, курган, погребальный холм, Grobian грубиян, осквернитель могил, хулитель курганов; рус. погребальный костер и костерить, рус. оскорблять и скорбь по умершим родственникам; лат. rogus погребальный костер, могила, но рус. ругать; нем. Grob могила и Grobian грубиян; англ. moat могила и рус. мат ‘грубое слово’; ср., рус. видел я тебя в гробу!, иди ты к праотцам!, чтоб ты провалился в ад, подземное царство!, в воде умрешь!, ребро тебе в бок!, (р)еба тебе!, шиш тебе! и рус. (р)еб твою мат’!. В семантическом плане трансформационной модели мироотражения инвективного ряда первоначально, как (р)еба твое слово, к рыбе твое слово, т. е. ‘рублю твое слово-символ’, ‘говорю наперекор’ (англ. рerch окунь, рус. перечить; рус. рыба, но др.-инд. matsa рыба; рыба тебя – рыбе твое слово), ‘убиваю твой магический знак’, ‘прерываю твое проклятие’, ‘останавливаю священным словом его действие на меня’ (рус. извините, я вас перебью; ради бога, извините). Это обязательная ответная формула – противодействие магическим силам, вызванным оппонентом в речи, символическое перенесение проклятия на другой объект, более могущественный, обладающий неприкосновенностью в силу своего божественного знамения в сознании.
По представлениям язычников, священным навлекают (др.-рус. навь загробная жизнь, ад, др.-инд. nau вода, смерть), святым оберегаются (рус. оберег, беречь, нем. Berg гора, могила, дух-хранитель).
Итак, индоевропейская этноомонографа ‘м-т’ имеет широкое культовое толкование, позволившее определить всю трансформационную форму русской матерной формулы еб твою мать, давшей обильную почву для этнокультурных ‘поисков’ в области инвективного словоупотребления в рамках меняющейся этнокультурной традиции и ассимиляции древних языков: ср. 1) рыба, обычай – др.- инд. matsa рыба, перс. mahi рыба, англ. meet собираться на культовый церемониал, лат. metus страх, богобоязнь; 2) рука, вещее слово – др.-англ. mund рука, арм. mаt палец, белорус. мацаць щупать; лат. muttio бормотать, проклинать, укр. замати просить взаймы, рус. немец чужой, говорящий на другом языке; рус. кричать благим матом, т. е. громко, изо всех сил ; нем. Moto девиз, белорус. мэта цель, белорус. мета метка; рус. «мат – божественное слово», белорус. мацюкать материть, тох. мат обижать, оскорблять; 3) сакральный акт, рубить – др.-инд. medha- жертвоприношение, нем. Mette всенощная, гот. maitan разрубать, лат. meto резать, собирать урожай, нем. metzen резать, рубить; и.-е. med лечить словом, ножом; 4) могила, дом – англ. moat ров, могила, др.-инд. mathu дом, рус. mohyla земляной дом, как и храм, хоромы, хоронить; 5) земля, род –лат. mundus земля, рус. мотыга орудие для обработки земли, нем. Matte луг, пастбище ; рус. матка и мать, Мать Сыра- Земля; 6) плоть – англ. meat мясо, и.-е. moud половые органы, лат. muto половые органы, лат. (m)uterus матка, лат. matrix матка; 7) профанные проявления – рус. помет, мот, муть, мутить, мзда; фр. matoue кот, т.е ‘поедатель рыбы’, ‘злой дух’, англ. mud грязь, т.е. «чихать я хотел на твой рыбный знак», обожествленный, но потом низвергнутый в нечистоты символ – слово, как низвергают отслуживших идолов, оставляющих потомкам лишь нарицательный оттенок в языковой памяти миропостроения (шиш тебе! – где шиш, шишок – домовой, бес, шишко, нечистый дух; кикимора, шишимора, др.-инд. mora, mor – смерть, нем. morden убивать; нем. Moritat страшный рассказ, Mär легенда, сказание ‘о первобытных чудовищах’.
Брань – злоупотребление божественным, т.к. священное слово (Рыба!) используется на ‘бытовом’ уровне в сугубо личных, ‘корыстных’ целях, причем в не отведенное ритуальным актом, обычаем время на упоминание священного имени. Брань – божба, в таком случае, подкрепляется силой взламывания временного отрезка на словоупотребление, и, кроме того, брань открыто эксплуатирует семасиологический смысл божественного, который был заложен или точнее установлен предшествующим религиозным опытом и который приобрел в сознании сверхсилу. Естественно, что отрицательный ‘эффект’ бранного словоупотребления утраивается в случае его использования в общественном, публичном месте, т.к. в совокупности: 1) происходит собственно само злоупотребление верховным словом, кроме того, 2) взламывается временной отрезок на уместность употребления, 3) взламывается пространство – слышат все или некоторая часть социума.
Итак, теперь стало возможным аналитическим путем завершить цепь рассуждений и восстановить первоначальную формулу самого одиозного русского матерного выражения Иди на х… – что принимает ясную, понятную, семантически наполненную, соответствующую индоевропейской мифоэпической традиции, законченную форму действия: Иди на погребальный холм петь песни!: ср., рус. трубить, рубить и рыба; лат. piscis рыба, и.-е. pesnis penis [Маковский 1996: 161], рус. песнь, лат. cano петь, cunnus половые органы, canna дудка; или в усеченном виде: Иди на погребальный холм!, т.е. ‘в совокуплении с духом предков ты умрешь’, ‘могилой предков прервется твое слово’, ‘в могиле ты замолчишь’, Иди на холм!, Иди на х… (с восточным элементом); ср. Иди в поле!, Иди на Лысую гору! – как известно на погребальных курганах не было никакой растительности, т.е. это ‘лысое место’; ‘там, где Макар телят не пасет!’; фр. fоus-moi le camp! убирайся вон!, дословно – ‘иди в поле!’. Итак, в данном случае: 1) упоминание божественного всуе – погребальный холм, т.е. могила, место захоронения праха предков у всех народов считалось священным, т.е. это злоупотребление словом; 2) взламывание временного отрезка – бытовой характер инвективнаго словоупотребления предполагает явную неуместность; и 3) взламывание публичного пространства – петь песни на погребальном холме, горе – это обязательно должно быть досягаемо до всех, воспринято, услышано всеми; и это, во-первых, предусматривает всеобщность воздействия, и, во-вторых, это логическая инверсия, противопоставление, что может рассматриваться как суггестивный прием усиления эффективности речевого акта, т.е. в случае неприятия мнения оппонента, оно кажется нелепым, – нелепым и защищаются, отвечают – акт ‘петь песни на погребальной горе’ в момент, когда там нет похоронной процессии выходит не только за рамки неуместного религиозного поведения, сколько за уровень ментального здоровья. Кроме того, определенный религиозный смысл имело само понятие ‘песнь’, что соответствовало прежним представлениям: песнь – это сексуальный символизм, культ рождения, праздника, святости: ср. рус. песнь, и.-е. – pesnis penis [Маковский 1996: 161]; нем. Lied песня, лат. ludus культовая игра, рус. люди, нем. Leute; рус. луд свет, святость; рус. Песнь! Блеск! – выражения восторга.
Процесс образования сакрально-профанного понятия можно представить в виде цепочки последовательных превращений понятия, в начале которого стоит религиозное понятие святого, непосредственно божественного. В ходе эволюции понятия ‘святое’ превращается в ‘священное’, т.е. нечто уже необязательно религиозно определенное, но все же исключительное по важности; священное именно в силу исключительной важности объявляется запретным, не упоминаемым всуе. Соблюдение правил запретности подразумевает попытки их нарушения и наказания за это, т.е. запретное приобретает свойства опасного.
В процессе борьбы против древних культов это опасное может начать переосмысливаться в ‘нечистое’: известно, что ‘нечистыми’, как правило, были объявлены все отвергаемые обряды, традиции, нормы: ср. рус. колода идол и колдовать, колдун, поганый нечистый, языческий. Нечистое же легко переходит в сознании в непристойное. Таким образом, если два явления, во-первых, противоположны, а, во-вторых, вызывают одинаковую реакцию (ср. и.-е. pauson божество, лат. piscis рыба, но и и.-е. pes половой орган, рус. песня, фр. poisson d'avril апрельская шутка, или трансформационные эпитеты священников на Руси: ‘холм высок’, ‘труба небесная’), это заставляет предположить, что противоположный характер скорее связывает эти явления, чем разъединяет их. Итак, трансформационная модель концепта ‘оскорбление’ принимает форму: оскорбление – использование в речи сакральных категорий религиозного мировоззрения, выражающих принижение божественной роли в жизни верующего человека.
Но в подобном удалении от бога выражается стремление первобытного человека к самостоятельным поискам смысла жизни, самостоятельным новым открытиям в области как религии, так и материального производства, а также в постоянных попытках самоотождествления в рамках одних и тех же явлений природы. По мере того, как примитивный человек проявляет свой интерес к жизни, он обнаруживает священное в новых ипостасях, например, в плодородии земли (мать твою! - в трансформационной модели ‘мать’ - собирательный образ земли-прародительницы) или увлекается более ‘конкретным’, более ‘плотским’, даже оргиастическими знаниями, он все дальше и дальше отходит от ‘Небесного Всевышнего Бога’ (козел!, свинья!, дерьмо!, сукин сын!). Совершенно другие силы начинают играть свою роль: мифология женщины и Земли, плодородия, плотской сексуальности. Религиозный опыт становится более заземленным, более связанным с жизнью, более светским. В таком случае, оскорбление определяется как причинение вреда чести и достоинству личности, выраженное в ее сравнении с непристойными понятиями, которые вступают в противоречие с установившимися нормами светской морали.
Новые боги – покровители сельского хозяйства – были не в силах спасти человека, охранить жизнь в реальной критической ситуации. Божества, превосходно управлявшие мирскими ритмами, оказываются бессильными, когда речь идет о спасении человека в экстраординарной ситуации, в случае крайней опасности, когда все предпринятые меры оказываются напрасными, а новые боги не в состоянии помочь, когда несчастье от самого неба: засуха, гроза, эпидемия; и человек вновь обращается к высшему существу со своими мольбами: О, господи!, О, мой бог!, O, my God!, Großer Gott!, Großer Himmel!, Du, lieber Himmel!
Различные существа, заместившие высших существ в мирской жизни, обладали наиболее конкретными и наиболее яркими возможностями – возможностями способствовать жизни. Открыв священность жизни, человек больше и больше оказывается в плену собственного открытия: он отдается во власть собственных переживаний и отдаляется от священности, стоящей над его повседневными, непосредственными нуждами. Но даже тогда, когда в жизни небесные боги уже не главенствуют, небесный символизм, понятие святого продолжают занимать центральное место в категории священного. То, что вверху, ‘верхнее’ продолжает обнаруживать запредельное, потустороннее в любой религиозно-философской системе. И если само Небо не фигурирует более в жизни, затеряно где-то в мифологии, оно тем не менее присутствует в мирской жизни посредством символизма, хотя этот небесный символизм пронизывает и поддерживает, в свою очередь, множество обрядов вознесения, восхождения, посвящения, коронования, клятвы, множество мифов о первоосновах – Змее (гадина!, гадюка!, змея!), Горе (иди ты на Лысую гору!), Дереве (ну и дуб!), Центре Мироздания (подвести под монастырь), Могиле (иди на погребальный холм петь песнь!, иди на холм!, иди в поле!); а также божественном, верховном, высшем, священном, сакральном с одной стороны, и – мирском, заниженном, грубом, бранном, профанном, низшем, человеческом низе; проклятии, низложении, унижении, принижении, забвении, и, в конечном итоге, с другой стороны, оскорблении, нанесении обиды чувствам некогда религиозного человека.
В жизни человека священное как религиозная категория проявляется реальностью отличной от ‘естественной’ реальности. Для обозначения того, что заключается в культовых обрядах ‘святая тайна жизни’ или ‘освященная тайна’, или ‘священная тайна’ используются слова, заимствованные из сферы естественной, но не религиозной жизни человека, и такое использование лексики по аналогии обусловлено неспособностью человека выразить ‘это Верховное, Божественное’, т.к. для обозначения того, что выходит за пределы естественного человеческого опыта, язык может использовать лишь те средства, что были накоплены в нем благодаря предшествующему религиозному опыту: ср. рус. белый – цвет огня, характеризовавший мужчину, согласно индоевропейской мифоэпической традиции, от др.-англ. bel огонь, нем. диал. boli огонь, костер; рус. блядь первоначально ‘сжигаемая на костре’ после смерти мужа; ср. блядина мука – бляха-мука, бляха-муха!; но затем ‘несущая печаль смерти мужа’, ревущая белугой, имеющая окрашенная в белый цвет волосы, усыпанные пеплом погребального костра; frq. blank белый, нем. bleichen белить, обесцвечивать, bleiben оставаться, bleidigen оскорблять (за отступление от обычая); рус. шлюха, т.е. ‘непреданная земле’, лат. sol солнце, огонь, silens покойник, solus покинутый, solita имеющая распущенные волосы, lugeo быть в трауре, но и solor утеха; рус. путана, лат. puteus могила, puto стричь волосы, т.е. ‘имеющая остриженные волосы’; рус. ларва ‘дух не погребенной вместе с мужем жены’, лат. larva злой дух, привидение.
Сама языковая структура Мира сохраняет воспоминания в семантическом толковании о Высшем Небесном Существе, т.к. ‘Боги’ создали мир и его представление в сознании таким образом, что никакой мир уже невозможен без вертикального измерения, и само это измерение наводит на мысль о Всевышнем. Будучи буквально изгнанным из религиозной жизни, священность остается жить в символизме, даже если этот мир перевернулся, даже если он и не осознается более во всей своей полноте как сакральный символ: ср. гад, гадать, гад ползучий!, гадить; колода, колдовать, колдун; глаз, глазить, сглазить; клевета, клонить, клинок, клин клином вышибают!; речь, река, поток слов, заткни фонтан!, подмочить репутацию.
Теперь трансформационная модель концепта ‘оскорбления’ преобразуется в следующую форму: оскорбление – нанесение обиды чувствам самокритичной личности, не допускающей определения ее социальной значимости ниже порога восприятия общепринятых форм приличия.
В процессе исторического развития мировая этика характеризуется: 1) сакрализацией всего, связанного с прокреацией; 2) сложным сплавом профанного восприятия фаллических символов с сохраняющимся в подсознании сакральным отношением к ним. Превращение священного имени в инвектив не изменяет эмоциогенности используемого слова. Моральное требование, внешне выглядящее тем же самым, в разных условиях может эмоционально трактоваться как выражение как сакрального, так и профанного отношения.
Слово, некогда бывшее метафорой, со временем утрачивает свои явно мифологические свойства, но затем снова подвергается мифологическим преобразованиям, которые нередко уже несходны с первоначальными. А сама этнокультурная метафора является, в сущности, маленьким мифом [Маковский 1996, 16].
Литература
-
Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2-х томах. М., 1995.
-
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
-
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик. М., 1999.
-
Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). М., 1997.
-
Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психологическая интерпретация речевого воздействия. Ярославль, 1990.
-
Продолжение »