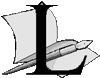На лезвии бритвы: Ecce homo
Поэты ходят пятками по лезвию ножа –
И режут в кровь свои босые души!
(В. С. Высоцкий)
1. Семиотическая граница и вера: Homo credens
Человеческая жизнь – это узкая полоска границы между двумя океанами небытия. Человеку всю жизнь суждено бороться за выживание, и сама жизнь – вечное нахождение на грани смерти. Пограничность свойственна всем человеческим проявлениям и действиям. Жизнь заставляет охранять границу собственного организма от пагубного воздействия окружающей среды, границу собственного «Я» – от тлетворного влияния социального окружения, границу своей культуры – от разящего меча либо смертельных объятий культуры чужой. Непреодолим и «парадокс границы» между субъектом и объектом познания в гуманитарной сфере: человек как действует сам, так и руководит собственными и чужими действиями, обобщает и исследует их, проявляясь в одном лице и как субъект, и как объект познания и деятельности. Языковая деятельность человека – квинтэссенция пограничности. Человеческий язык в целом призван обслуживать интерфейс между человеком и окружающей средой. Кроме того, со времён Вавилонской башни часто приходится переходить через границу круга – который, по Гумбольдту, описывают вокруг народа его язык и культура – вступая в иные круги.
На границе гумбольдтианского круга языки и культуры находятся в отношениях асксиологического противопоставления, антагонизма, контраста. Наивный пользователь языка всегда оценивает то, что имеется и по ту и по другую сторону границы. Мифы семиотической границы, представления о чужих языках и народах лежат в основе коммуникативного поведения в ситуации межкультурной коммуникации.
Как показывают размышления и исследования (Dufva 1994: 25-29; Кашкин 2002: 13-14), наивный коммуникант, оценивающий языки и культуры по ту и другую сторону границы, большей частью полагается на свои ощущения, представления, предрассудки, мифы и тому подобные явления из области не столько знания и разума, сколько рассудка и веры. И действительно, практическое, повседневное знание в целом не может принципиально опираться на сферу знания логического, хотя бы исходя из принципа экономии: для совершения практических действий необходимы «быстродействующие» стереотипизированные схемы, «пакеты» мифологизированных представлений, свёрнутым образом обобщающие предшествующий опыт человека. Для выводного знания, тем более для «проверки его на практике», размышлений о его истинности, просто «не хватает времени».
Отношение к другому, к его языку и его культуре в значительной мере подвержено воздействию стереотипизированных схем. Коммуникант не столько знает, сколько верит (слышал когда-то, принял на веру когда-то, воспринял – и сейчас использует эту установку уже без размышления и т. п.), что «итальянцам нельзя доверять, все равно в чем-нибудь обманут», «все русские любят выпить и поесть на халяву», «немец должен вовремя и точно выполнить условия соглашения» – и так далее. Стереотип не разрушается до конца, даже если данный конкретный представитель этнокультуры ведёт себя вразрез с общепринятым представлением (немец не выполняет обязательств вовремя, русский не пьет, а итальянец… впрочем, о нём уже поздно: с ним уже не подписали договор, хотя он мог бы стать выгодным для обеих сторон). Отдельные коммуникативные неудачи неприятны, но избегать их впредь часто и не пытаются.
Даже более изощренные в вопросах межкультурных контактов преподаватели иностранных языков, переводчики и представители других древнейших профессий иногда в личной беседе вставляют фразку: «Как типичный англичанин, он…» или «Он не был похож на типичного англичанина». При этом ожидается понимание «типичного англичанина», как представителя reserved, polite, pet-loving, tea-drinking nation – values which have long made Britain ‘different’ (Ford 2005: 34) «сдержанной, вежливой нации, любящей домашних животных и чаепитие – это те ценности, которые отличают Британию от других». Difference, «отличие» – вот ключевое слово стереотипизированного восприятия поликультурного пространства. Именно это свойство роднит культуру с языком и напоминает о повсеместно цитируемых словах классика лингвистики: «В языке нет ничего, кроме различий» (Ф. де Соссюр).
Как иррелевантна материя, из которой скроен язык либо любая иная семиотическая система, так и границы между культурами не являются изначально материальными. Разумеется, лесополосы, колючую проволоку или вспаханную борозду не стоит всерьёз рассматривать как изначальную, природную границу. Впрочем, человек давно уже привык жить в мире вторичных артефактов, и для многих бездушно-полосатый пограничный столб или линия на карте мифологизируются и становятся частью эмоционально-возвышенного дискурса о родине vs. чужбине. Плохо это или хорошо? Ещё Платон сказал, что не существует хороших, либо плохих мифов, мифы бывают полезными либо не очень. Если граница проводится, значит это нужно кому-то – по одну, либо по другую её сторону.
Не ставя пока вопроса о функции границы, отметим её конститутивное свойство. Граница в человеческом сообществе по сути представляет собою явление семиотическое, знаковое, мифологемное. По ту сторону границы говорят (вербальные знаки), жестикулируют (невербальные знаки), действуют (знаки-действия), производят (артефакты), думают (концепты) и т. д. по-другому. Всё остальное там такое же, как и по эту сторону границы. Британская difference или différance (как предпочитал писать Ж. Деррида) по обе стороны The English Channel/La Manche состоит в различии не столько природы, сколько способов её называния и употребления. В этом можно найти одновременно как основу недопонимания между культурами, так и основу искомой успешности межкультурной коммуникации. Как писал тот же Деррида, «какими бы разнородными ни были сущностные структуры различных конституированных языков и культур, перевод в принципе есть задача всегда возможная: два нормальных человека всегда априори будут обладать сознанием своей общей принадлежности одному и тому же человечеству, живущему в одном и том же мире» (Деррида 1996: 98).
Кстати, и сама «межкультурная» коммуникация – миф. Коммуникантами в природном, изначальном смысле могут быть лишь двое, два индивида, культуры не разговаривают. Культуры – это наши представления о совокупных различиях в знаковом и материальном поведении сообществ индивидов. Именно индивид первым проводит границу между собой и иным – первой появляется граница межличностная. Двое вырабатывают один язык, одну культуру. Вопрос о «межкультурье» просто не встаёт. Лишь позднее, в особых обстоятельствах экспансии личности и содружеств личностей, появляется возможность и возникает осознание различия языков и культур разных местностей.
Таким образом, можно говорить о семиотической границе личности – и о семиотической же границе социума. Пограничные столбы и заборы, национальная одежда и экстравагантная мода, войны и драки «спортивных» болельщиков – лишь продолжения мифологизированности различий, охраняющие личностное и национальное пространство, предмет – иногда неистовой – веры. Но граница не до конца неприкосновенна. Выживаемость системы внутри границы зависит не только от защиты, но и от обмена (веществ и идей). Это доказывается весьма жизненным примером: изолированные в отдельных камерах коммуникативные личности не могут долго прожить без воды, хлеба, а также без перестукивания. Даже толстые стены не мешают коммуникации.
2. Семиотическая граница личности: Homo communicabilis
Современная теория коммуникации, лингвистика, да и практически вся гуманитарная наука с успехом разрабатывает новый подход к коммуникативной деятельности – антропоцентрический (ориентирующийся не столько на систему и структуру, сколько на пользователя языка, коммуникативных и социальных систем – человека). Вводится понятие языковой и коммуникативной личности (Карасик 2004: 22-25; 2005: 53-55). Термин «личность», как известно, представляет собой перевод латинского слова persona «маска актёра». Ещё античные философы различали человека как физическое тело, средоточие физиологических процессов, и собственно человеческих черт. Таким образом, в человеке противопоставлялись душа и тело. Коммуникативная личность – совокупность разноуровневых характеристик коммуникативного поведения отдельного коммуниканта или типа коммуникантов.
Вероятно, универсальной для любой культуры является трёхуровневая структура языковой личности (Караулов 2003: 55-68). Для коммуникативной личности также выделимы три уровня: 1) уровень кода, включающий лексикон, запас слов и знаков иных кодов, умение их использовать, в том числе и «любимые» ошибки, как например у социально значимых личностей политиков (Горбачев, Тэтчер, Буш) = вербальный опыт; 2) когнитивный уровень, включающий личностную картину мира, систему ценностей, излюбленные обороты речи = познавательный и социальный опыт; 3) прагматико-мотивационный уровень, включающий намерения коммуниканта, коммуникативные установки, коммуникативные способности = ситуативный опыт. Соответственно уровням выделяются и три параметра коммуникативной личности: функциональный, когнитивный и мотивационный. Основной и исходный из них – мотивационный. Во всех культурах можно говорить о коммуникативной способности, умениях, навыках, коммуникативном стиле, коммуникативной компетенции (в т. ч. и в межкультурном аспекте), коммуникабельности, харизме. В то же время реализация этих черт в каждой культуре имеет свою специфику.
Фундаментальным свойством коммуникативной личности, спаивающим воедино все три её уровня, является и её способность к самосознанию себя как отдельной личности, способность к проведению границы (по преимуществу семиотической). Существенную роль в проведении границы и собирания пучка характерных особенностей под эгидой одной коммуникативной личности играет имя индивида (либо типа, либо сообщества индивидов). В традиционной лингвистике эти лексемы носят название антропонимов либо этнонимов.
Хотя небезызвестная девочка Алиса спрашивала doubtfully («с сомнением»): Must a name mean something? «А должно ли имя что-либо значить?» (L. Carroll. Alice in Wonderland), имя для человека как коммуникативной личности весьма значимо. Антропоним имеет особую коммуникативную значимость. В отличие от любых других имён, называющих предмет разговора, антропоним может обозначать самих коммуникантов. Коммуникативная функция антропонима — самоосознание и самоопределение коммуникативной личности как участника коммуникации и социальной жизни. Известно, что 80 % нашей жизни мы отдаем коммуникации. Имя говорящего — страж границы его личной и личностной территории: «граница личности есть граница семиотическая» (Лотман 1996: 186). Коммуникативная личность всегда тем или иным образом определяет качества и характеристики мира по эту и по ту сторону границы. Следовательно, имя для индивида наделяется неким личностным значением, и у индивида формируется определённое понятие о себе как личности. Есть разница в обобщающих способностях имён и фамилий, разница в традициях использования одного или более имён, отчеств, имени матери, официального и неофициального имени в различных коммуникативных культурах и т. п.
Языковое и коммуникативное поведение насквозь мифологизированы, они организуются и управляются не всегда полностью осознаваемыми мифологемами-стереотипами. Имя – это также свернутый «мифологический сюжет» (Топоров 1994: 508), деятельностный стереотип. Вопрос об «истинности имён», о связи имени и именуемого постоянно возникает в истории человечества. Вспомним Пушкина: Что в имени тебе моем? – или Шекспира: What’s in a name? В этих случаях раньше было принято также цитировать К. Маркса: Я решительно ничего не знаю о человеке, если знаю только, что его зовут Иаковом. То есть, имя незначимо, оно – пустой звук, сотрясение воздуха, «мёртвый след» на бумаге. Хотя Дж. Кэрролл в исследовании, где он сопоставлял основы номинации в сфере личных имён, товарных знаков и названий файлов, называет Шекспира «хорошим поэтом, но плохим философом»: имена все же не являются до конца и во всём арбитрарными (Carroll 1982: 163).
Результаты дискурсивных исследований роли имени в жизни человека показывают, что наивные пользователи связывают с именами определённые аксиологические ориентиры, прогностические ожидания и интертекстуальные коннотации (Кашкин, Пейхенен 2000; Кашкин 2002).
Приобретая имя, личность приобретает и определённый статус в социальной среде. Имя, таким образом, продолжает выполнять пограничную, защитную функцию для носителя. Наличие во всех языках выражений типа доброе имя, уважаемое имя, достойное имя свидетельствует о том, что имя хранит в себе и долю «символического капитала», если воспользоваться терминологией П. Бурдье (Bourdieu 1991: 72-76). Имя, как и любой элемент речи производится в экономических целях для использования на лингвистическом рынке. Это достаточно очевидно для brand name товара или для фамилии. Общественное признание того или другого является не чем иным, как обобщением, генерализацией качеств товара или семьи, качеств, в которых они себя зарекомендовали в практике использования, сотрудничества или общения.
Магический перформатив номинации, как видим, связан с отношениями власти и авторитета, с экономикой лингвистических обменов по Бурдье (Bourdieu 1991: 37).
Собственное имя воспринимается носителем не само по себе, и, может быть, даже не по соответствию неким качествам, присущим носителям подобного имени (во всяком случае, не в первую очередь). Основным пафосом восприятия себя через имя является самоидентификация, её две стороны: быть таким, как все и быть не таким, как все. Именно подростковый возраст даёт наибольшее количество конфликтов в плане самоидентификации, врастания в социальную среду и отграничения собственной личности от других личностей (среды). Знаком-мифологемой этого отграничения и служит личное имя индивида, воплощающее единство и борьбу противоположностей: отождествления со средой и выделения себя из среды. Как писал А. Ф. Лосев, «Без слова и имени человек — вечный узник самого себя, по существу и принципиально анти-социален, необщителен, несоборен и, следовательно, также и не индивидуален, не-сущий...» (Лосев 1993: 642).
Связь между именем и его носителем поддерживается в массовом сознании (имя может иметь различную интерпретацию в различных исторических срезах). В то же время, массовое сознание через дискурс, общение с носителем имени воздействует на индивидуальное сознание последнего (индивид должен «оправдывать» данное ему имя). Индивидуальные отступления от соответствия приводят к нарушению баланса и возможному сдвигу в значении имени для массового сознания. Мода на имена связана, во многом, именно с этим. Мифологема имени, таким образом, исторически привязана к той или иной эпохе, историческому периоду. Имя человека одновременно и мотивировано, и немотивировано. Антропоним скорее является примером асимметричного дуализма (по Карцевскому), нежели примером чистой арбитрарности знака. Значение имени изменяется с историей его носителя.
Коммуникативная личность – содержание, центр и единство коммуникативных актов, направленных на другие коммуникативные личности, коммуникативный деятель. Помимо индивидуального коммуниканта, коммуникативной личностью называют также тип коммуникантов, типичную коммуникативную личность какой-либо социальной группы. Обмен «любезностями» между представителями отдельных социальных групп (заключённые, молодежь и подростки, учёные и т. п.), использование ими бранной лексики, жаргонизмов, регионализмов, профессионализмов и прочих стилистических средств служат как фатической, контактоустанавливающей функции, так и сохранению соответствующей среды общения (подтекст: Мы с тобой одной крови, ты и я). Например, в небезызвестном мультсериале Beavis & Butthead часто наблюдается нарушение взаимной идентификации, неудачи в общении из-за отсутствия коммуникативного опыта у подростков, недостаточной их социализованности, в первую очередь, именно в коммуникативном плане.
Своеобразие формальных и стилистических характеристик речи отдельного носителя данного языка, как известно, принято называть идиолектом. В поведении индивида отражаются свойства природной и социальной (в том числе коммуникативной) среды. В рамках некартезианской парадигмы гуманитарного знания говорится также о воплощении, гексисе, embodiment; hexis в теории П. Бурдье (Bourdieu 1991: 13) природных и общественных структур в отдельном индивиде. Коммуникативная личность неоднородна, может включать различные роли или «голоса», при этом сохраняя свою идентичность – ср. идею многоголосия личности в постбахтинианской психологии (Верч 1996: 22-24). Сейчас говорят, что коммуникативная личность включается в различные дискурсы, например: Чехов как писатель и Чехов как врач. Один и тот же человек может быть студентом, продавцом, покупателем, рэкетиром, жертвой, ребенком, родителем. Но при этом приемы коммуникативной тактики, например, обмана или убеждения, вымогательства или просьбы – будут сходными в разных ролевых контекстах, но в близких коммуникативных ситуациях. Различаться они будут индивидуальной и социальной окрашенностью (ср. роли «студент-троечник» и «преподаватель-троечник»). Различаются они и в различных культурах.
3. Семиотическая граница социума: Homo interculturalis
Успешность коммуникации в ситуации культурного контраста (так называемой «межкультурной коммуникации») зависит от действия ряда факторов. Одним из факторов общего, глобального действия, определяющим мотивационные и фатические моменты (предрасположенность к общению, антиципация целей и последствий, вступление в коммуникацию, намётка стратегии и тактического поведения и т. п.), а также и собственно содержание коммуникативных актов, – является сам факт того, что коммуниканты принадлежат к различным лингвокультурам. Данный фактор оказывает влияние как на межличностное общение представителей разных культур, так и на социальные аспекты межкультурной коммуникации (преподавание языков, перевод, международная политика и дипломатия, бизнес и т. п.). При этом вовсе нельзя сказать, что данный фактор действует только на «наивных коммуникантов», а образование и просвещение в сфере межкультурной коммуникации приводит к стиранию межъязыковых и межкультурных границ. Больший коммуникативный опыт приводит лишь к тому, что обозначается «туманным» английским словом awareness, то есть к осознанию «инаковости» чужого, даже к признанию его «права на существование», – но не к исчезновению самих различий языковых культур.
Аксиологическая дифференцировка («опасно» vs. «безопасно», «полезно» vs. «вредно», «своё» vs. «чужое» и т. п.) лежит в основе человеческой жизнедеятельности, поэтому и в межкультурной коммуникации мы сталкиваемся, в первую очередь, с оценочными стереотипами, пресуппозициями, которые оказывают существенное влияние на начало, осуществление и последствия коммуникации (Карасик 2004: 6-10, 24-25). «Скажите, а какой язык самый красивый?» – такие вопросы часто задают школьники и студенты. Да и вполне «взрослые» люди считают, что где-то есть «список» самых красивых, самых трудных, самых лёгких языков, этакая лингвистическая книга Гиннесса. Книга Гиннесса, в определённом смысле, является зеркалом современной массовой культуры, стремящейся везде и всюду ставить оценки. Впрочем, склонность к различению предметов окружающего мира (а, фактически, своих впечатлений о нём) – основное свойство человека.
Фактор культурной (языковой, семиотической) границы является основным для межкультурной коммуникации. Само её начало предполагает, что коммуниканты определяют себя и собеседника в терминах «свой» vs. «чужой» (независимо от той качественной оценки). «Своя» и «чужая» речь воспринимается не просто как turntaking «смена ролей» в диалоге, она маркируется как речь (язык, культура и т. п.) представителя, находящегося внутри границ, либо «за стеной», «за границей» своего языка и культуры. При этом не важно, ведётся ли речь на одном из двух языков, на третьем языке-посреднике, либо с помощью посредника-переводчика. Во всех случаях коммуниканты учитывают и маркируют свою принадлежность к разным культурам. Ю. С. Степанов так пишет о субъективном маркировании эндо- и экзосферы в культуре: «А эта сфера, «Свои» – «Чужие», как раз такая, где само противопоставление создаётся не только объективными данными, но и их субъективным отражением в сознании» (Степанов 2001: 127).
Подобная маркированность не означает непременно противостояния, агрессивной коммуникации – достаточно часто коммуниканты ищут общее поле взаимного понимания, консенсуального взаимодействия, сближая детерминированные лингвокультурой мировосприятия для достижения успешности коммуникации. Коммуникативный баланс поддерживается двумя конкурирующими принципами: симпатии и антипатии, взаимодействия и воздействия. Вне зависимости от предпочтения того или иного принципа в конкретном коммуникативном акте либо событии, взаимное признание наличия семиотической границы является константным для межкультурной коммуникации.
Маркировка сопутствует и способствует формированию поведенческого стереотипа по отношению к «своим» и разным типам «чужих». Считается, что стереотипическая классификация нивелирует характеристики входящих в класс индивидов. И действительно, стереотип, как типографское клише, создаёт идентичные впечатления о любом представителе некоторой социальной группы, по всей видимости, необходимые для определения нашего отношения к ней, нашего способа поведения в отношении к ней, нашего способа адаптации к окружающей социальной среде, состоящей из отдельных индивидов. В каком-то смысле здесь человеком руководит некоторый страх и беспомощность перед бесконечностью окружающего мира. Стереотипизация своих реакций и мифологизация своего поведения, экономит индивиду усилия, снижает неопределённость существования, позволяет человеческому существу легче адаптироваться к среде и быстрее реагировать на её изменения (Lippmann 2004; McLuhan 1996: 163).
Как известно, обычно выделяют четыре разновидности этнокультурной стеретотипизации: простые авто- и гетеростереотипы (то, что мы думаем о себе и о «чужих») и переносные (projected) авто- и гетеростеротипы (то, что мы предполагаем о том, что «чужие» думают о нас и о себе самих). Приведём примеры. Вот как формулируется (исследователем, на основании опросов и анкетирования) простой автостереотип финнов: «финны считают себя трудолюбивыми и честными», и вот как – простой гетеростереотип: «финны считают шведов гордыми и самолюбивыми». Переносный автостереотип: «финны полагают, что шведы считают их самих (финнов) тупыми и отсталыми», – и переносный гетеростереотип: «финны полагают, что шведы считают себя умными и цивилизованными» (Lehtonen 1992: 144-146).
Во всех разновидностях стереотипизации отношения и поведения просматривается базовый бинарный принцип. Можно утверждать даже, что определяя не только свою, но и иную нацию, народ имеет в виду самого себя как эталон (необязательно в положительном смысле «эталон-идеал», а как эталон для сравнения), свои собственные характеристики, свои границы в поведенческом континууме возможных норм и правил поведения в культуре.
Сам себя называя, идентифицируя себя, социум тем самым проводит и границу своей культуры, очерчивает пределы своего этнокультурного пространства, «этнического поля», по Н. А. Гумилеву (Гумилев 2001: 309-314). Ещё Ю. М. Лотман отмечал: «Одним из основных механизмов семиотической индивидуальности является граница <…> Это пространство определяется как “наше”, ‘своё’, ‘культурное’, ‘безопасное’, ‘гармонически организованное’ и т. д. Ему противостоит “их-пространство”, ‘чужое’, ‘враждебное’, ‘опасное’, ‘хаотическое’» (Лотман 1996: 175).
Межкультурная коммуникация связана с ситуацией языкового и культурного контраста, когда пересекается граница культур и языков. При этом пользователь языка проявляет явное аксиологическое поведение, непременно стремится оценить качества своего и чужого языка, известных и малоизвестных ему языков и культур. Результатом подобной бытовой аксиологии являются как стереотипы собственного коммуникативного поведения в иноязычной и инокультурной среде, так и культурный или «языковой имидж» (термин Д. Болинджера), стереотип той или иной лингвокультуры, мифологема некоторого языка или народа в массовом сознании.
Многие мифологемы в сфере межкультурной метакоммуникации имеют интертекстуальную опору (Великий и могучий русский язык; No hay más dulce que el habla castellana и т. п.) и постоянно воспроизводятся в дискурсивной деятельности. Мифы о чужих языках и культурах соотносятся со степенью толерантности массового сознания данной культуры. Многие мифы мотивируют и автодидактическое поведение наивного пользователя в области изучения чужих языков. Мифология автодидактики выступает как комплекс взаимодополнительных представлений, лежащий в основе поведенческих стереотипов, а общие аксиологические представления о родном и чужом языке – как мифы тоталитарного действия, разделяемые большинством респондентов (Кашкин 2002: 28-30).
Для русскоговорящих, по результатам ряда опросов, самый красивый язык – французский (50,0 %), а самый некрасивый – немецкий (37,5 %). Кстати, у большинства социумов наивысшую оценку получает родной язык, у русских он оказывается лишь на втором месте. Есть мифы о самом трудном (китайский), самом правильном (русский) и т. п. языках. Так, немецкий язык считается грубым, жёстким, варварским; украинский – смешным и глупым. Немецкий язык нужен для войны; для угрозы; украинский – специально был создан для того, чтобы смешить людей; французский – для объяснения в любви; для комплиментов; для того, чтобы говорить красиво; итальянский – для объяснения в любви; для скандалов; для наименования блюд; для пения.
Действительно, как уже было сказано выше, мифология языковой границы приписывает положительные качества родному языку (самый красивый, правильный, точный и т. п.). Чужие же языки позиционируются в рамках картины мира в зависимости от территориальной и исторической близости либо удалённости, а также от исторических факторов (войны, сближения, разделения и т. п.). Собственно внутренние свойства языков и культур здесь, разумеется, ни при чём, речь идёт об аксиологической картине мира, складывающейся у наивного коммуниканта в ситуации культурного контраста, о субъективном (или коллективно-субъективном) мнении и представлении (belief). Сепировские принципы равноправия знаковых систем здесь не нарушаются: «… методы понимания означающих представителями рода человеческого в равной степени надёжны, сложны и богаты оттенками в любом обществе, примитивном или развитом» (Сепир 1993: 211).
Насколько реальна семиотическая граница? Да, в общем-то, реальна ли граница и в политической географии? В природе границ на самом деле нет. Нет и физических границ между культурами. Есть лишь условия (горная гряда, река, история войн и др.), помогающие созданию границы именно в этом месте и в это время. Проведение межкультурных границ также условно, хотя и имеет объективные предпосылки (сложившиеся социумы, культуры и языки, история межкультурного общения и др.). Условность проявляется именно в аксиологическом, оценочном аспекте «пограничного» коммуникативного поведения и отношения.
Так, например, нельзя быть грамотным или неграмотным, культурным или некультурным вообще, можно вести себя правильно или неправильно только с точки зрения определённого культурного кода, языка, семиотической системы, то есть, системы условностей. Можно вспомнить типичный американский жест «ОК», неосторожно употребленный президентом США Дж. Бушем в Бразилии, где он интерпретируется как сексуальное предложение мужчины женщине, и ряд других вербальных и невербальных коммуникативных ошибок в ситуации контраста культур и кодов.
Взгляды наивных коммуникантов, приписывающие оценки своей или чужой культуре, её языку и другим знакам, нарушают семиотический принцип системной конгруэнтности, соответствия интерпретируемого знака системе, которой он при надлежитал. Невозможно интерпретировать знаки одной системы с позиций другого кода, другой культуры, другого языка. Через посредство своей собственной системы, своего языка, своей культуры нельзя понять смыслы, возможные в культуре чужой. Если человек, скажем, кладёт ноги на стол или улыбается в официальной обстановке, то это может быть вовсе не от отсутствия воспитания – а может быть, он американец? Если мы видим свастику на мавзолее Эль-Регистан в Самарканде, то из этого вовсе не следует, что древний народ, построивший этот памятник архитектуры, был последователем Адольфа Гитлера и т. п.
Символы сами по себе, без знаковой и культурной среды, без сообщества, использующего их по условленным негласным законам, ничего не значат. Культурный и языковой круг вокруг человека и сообщества людей является посредником между ними и окружающей их средой (как враждебной, так и дружественной). В то же время, консервативная функция коммуникативных систем, охраняющая норму внутри круга, фактически, способствует их выживанию. Именно поэтому нельзя требовать отмены национального своеобразия в угоду космополитизму и глобализации без риска предать и погубить собственную культуру и язык.
4. Пограничные феномены: Traduttore traditore
Человек понимает только то, что уже сумел понять, узнавание легче, «комфортнее», нежели познание нового. Ведь язык и другие коммуникативные системы, в определённом смысле, произошли, как уже было сказано, из страха перед непознанной нерасчленённостью окружающего мира. Познанный, расчленённый и обозначенный мир воспроизводится в ежедневных дискурсивных практиках как «свой», «безопасный», комфортный, не-агрессивный.
Развитие толерантности, попытки понимания «иного» ведёт к развитию новых сторон человека как коммуниканта: появляется человек новейшего времени, знающий, осведомлённый (aware) о наличии межкультурных различий. И хотя до собственно «гражданина мира» ему ещё далеко, в определённом смысле это уже действительно homo interculturalis. Он знает, либо желает знать чужие языки, либо просто знает (aware), что это необходимо или хотя бы, что они существуют и чем-то отличаются. Он ест пиццу и суши, пьет водку и шампанское, занимается икебаной, и если не доходит до харакири, то хотя бы имеет об этом – и многом другом – некоторое представление.
Иллюзорность межкультурных границ не мешает осуществлению реальных действий: от торговых до культурных обменов, от дипломатических нот до военных ударов, ведь война – это разновидность коммуникации (Ужаревич 1994). Как известно, дискурс определяется, как речь, погружённая в жизнь, как языковая (речевая) деятельность, сопряжённая с предысторией, состоянием мира в момент речи и последующим его состоянием. Изменённое состояние мира во многом достигается благодаря воздействию речи, дискурса. Дискурсивный эффект, следующий за дискурсивным актом может быть связан и с изменением в поведении участников коммуникации.
Дискурсивный эффект в межкультурной коммуникации в современном мире во многом подготавливается и обеспечивается работниками нового «невидимого фронта» – языковыми и культурными посредниками.
Не всегда такой посредник справляется со своей задачей, более того, идеал здесь никогда не достижим. Все же сильные отклонения воспринимаются как измена тому или иному языку, той или иной культуре. Кто же был тот несчастный русский троечник, который первым употребил слово эпизод для обозначения серии художественного фильма, например: «Звездные войны. Эпизод первый»? Он в большей степени виноват перед собственной культурой, чем перед культурой переводимой. Впрочем, границы сдвигаются, и современная молодёжь воспринимает слово эпизод в этом употреблении как вполне нормальное.
Подобный сдвиг, происходивший в 60-70-е годы с терминологией молодежной поп-культуры уже забыт и слова диск (вместо прежнего пластинка, грампластинка) или группа (вместо ансамбль) уже не кажутся неуклюжим заимствованием из английского. Автор данной статьи наблюдал представителей молодежи 60-х, в своё время с горящими глазами и пеной у рта доказывавших, насколько «правильнее» говорить группа вместо ансамбль (с последним ассоциировались лишь офи… Продолжение »