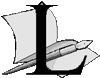3.3 Реификация абстрактных сущностей в бытовой лингвистике
Как писал когда-то А. П. Сумароков, обращаясь к типографским наборщикам, «... языки составляются не учёными людьми, но людьми, и не одними рассудительными, но всякими» (Русские писатели 1955: 42). Действительно, первотворцами языка являются «простые» люди или, как сейчас их стали называть, «наивные пользователи» языка. Последний термин, хотя и стал практически общепринятым (и не столько в отечественном научном обиходе, ср. англ. naive users of language), – и звучит «обидно», и не до конца отражает роли «простых» людей. Наивные пользователи являются не только создателями, но и первыми исследователями языка. Именно обыденное сознание человека приходит к первичным обобщениям касательно как собственного языка, так и языка других людей, либо других народов.
Особенности обыденного сознания накладывают отпечаток на формирование научных представлений – как в филогенезе, так и в онтогенезе. Сложная, полная переплетений и даже хитросплетений картина, в которой черты обыденного познания и того, что называется научным знанием, находятся в постоянном взаимодействии как исторически, так и в текущий момент – таково сознание пользователя языка. Как многие предрассудки собственной «жизни в языке» отдельного человека, так и многие заблуждения научных теорий в истории развития языкознания – ‘naïveté and myths’ in some language theories (Harris 1980: 4–7) можно объяснить спецификой формирования обыденных представлений и понятий. Как справедливо замечает С. Г. Воркачёв, «в обыденном сознании в рудиментарном или зачаточном состоянии присутствуют ‘дички’ всех бывших, существующих и будущих научных теорий, верных и ошибочных» (Воркачёв 2004: 84). Наука – постоянное исправление ошибок (correction des fautes), избавляющее с течением опыта от общераспространённых первичных заблуждений, как мудро указывал французский философ Гастон Башляр (Bachelard 1983: 172).
На самом же деле, с «первичными заблуждениями» не так просто расстаться, если это вообще возможно и целесообразно. Человек живёт и действует как «наивный пользователь» языка, даже если сам становится профессиональным лингвистом. Граница, разделяющая научные (неспонтанные) и житейские (спонтанные) понятия «оказывается в высшей степени текучей, переходимой в реальном ходе развития с той и другой стороны неисчислимое количество раз» (Выготский 2006: 857). Столкновение повседневных представлений о языке с научными понятиями происходит постоянно и, прежде всего, – в сфере межъязыковых и межкультурных контрастов. Ареной столкновения служит сознание ребенка, школьника, студента, переводчика, журналиста – любого участника языковой деятельности, наблюдателя и создателя её.
В результате подобных столкновений в сознании «наивного пользователя» формируется «наивная картина языка» (Арутюнова 2000) – система представлений, понятий («концептов»), иногда догадок или обрывков незавершённых обобщений, предрассудков и заблуждений (общих или частных) о языке, языках, способах их использования и изучения, их роли в познании и деятельности человека и т. п. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, в жизненной, практической философии складываются концепты, понятия – «обыденные аналоги философских и этических терминов» (Арутюнова 1999: 617). Существенная часть этих понятий составляет основу бытовой, повседневной философии языка (Кашкин 2002).
Взгляды наивных пользователей на язык привлекали внимание большей частью своей оценочной, нормотетической стороной: чудачества «народной этимологии», разнообразная поэтическая либо юмористическая «игра слов», рассуждения о правильности и неправильности употребления, т. наз. complaint tradition (Milroy & Milroy 1985: 6), своеобразный «лингвистический этикет», «как надо говорить» (van Lier 1997: XII) и т. п. Взгляды же на собственно устройство языка, которые формируются в повседневной философии, «народном языкознании» (Арутюнова 2000: 7) долгое время находились в тени. Во второй половине прошлого столетия интерес к бытовой металингвистике, «знаниям о языке», «folk linguistics», «folk models», «everyday knowledge of language», «language learning beliefs», «personal constructs», «critical language awareness», «metalinguistic / metacognitive knowledge», «Spachbewußtsein» и т. п. значительно возрос (Dufva 1994: 22–23; Encyclopedia 1997). С неменьшим интересом исследовались метакогнитивные аспекты в других сферах познавательной деятельности человека (Kelly 1963; Schommer 1995; ан Нгуен-Ксуан 1996 и др.), повседневная философия и обыденное сознание вообще (Berger 1966; Flavell 1979; Улыбина 2001 и др.).
Рус. Слово – серебро, молчание – золото, англ. Speech is silver, silence is gold, франц. La parole est de l’argent et le silence est d’or (Jeu de mot) и др. – совпадают не случайно, и это не единственное, да, может быть, и не главное совпадение. Первое наблюдение автора данной статьи за метаязыковыми представлениями было таким: «(в родном языке) у каждого слова одно строго закреплённое за ним значение» (из интервью). Это мнение повторилось в других анкетах и интервью русских студентов, а также у финских, немецких студентов, наблюдения за подобными представлениями встретились и в публикациях авторов из других стран.
Многие исследователи приходят к выводу об универсальности эпистемологических представлений вообще, независимо от сферы познания (Mori 1999: 403; Schommer 1995: 424). Повторяемость характеристик повседневных понятий «народной лингвистики» у разных народов также даёт возможность говорить об универсальном характере метаязыковых мифологем наивных пользователей.
Представления наивного пользователя языка кристаллизуются в следующих мифологемах и системах мифологем: 1) мифологема вещности слова и вещного характера языка (реификация слов); 2) представление о естественной связи слова и вещи, которую оно обозначает (семиотическая не-арбитрарность); 3) представление о дискретности семантики («внутренняя» реификация семантики слов-вещей) 4) механистический контекстуальный детерминизм (взаимная детерминация слов-вещей в высказывании); 5) процедурная мифология, т. е. мифология перевода и обучения, включающая приём пословного, линейного перевода, представление о накопительном характере языковой памяти («мешок» со словами-вещами); 6) мифология языковой и культурной границы, включающая оценочные представления о «характере» языков («самый красивый», «самый простой», «самый правильный» и т. п.) и другие межкультурные стереотипы; 7) мифология авторитетности в языке (поиск истины в словах и речах, либо признание авторитетности кого-либо из коммуникантов, правила и свобода в языковой деятельности и т. п.). Подробнее классификация мифологем повседневного знания о языке рассматривалась в предыдущих публикациях автора (Кашкин 2002: 18–30; Kashkin 2007).
Обыденное сознание хранится и воспроизводится в языке. «Наивная картина мира» как факт обыденного сознания воспроизводится пофрагментно в лексических единицах языка (Воркачёв 2004: 29). Сравним отражение первой мифологемы (мифологемы вещности слова) в концептах фольклора и художественной литературы, с одной стороны, и в результатах анкетирования и интервьюирования наивных пользователей, изучающих язык.
Иллюстративный материал данного раздела взят из корпуса примеров, полученного в результате сплошной выборки из нескольких произведений (пока, в основном, на английском языке), собранных в рамках гутенберговского проекта, а также отчасти Британского национального корпуса. Использованы также материалы включённого наблюдения, анкетирования и интервьюирования, проводившегося автором и слушателями семинаров в гг. Воронеже, Екатеринбурге, Тамбове, Краснодаре, Ювяскюля (Финляндия) и др. Некоторые примеры заимствованы из публикаций других авторов (со ссылкой) и из корпуса аспирантки О. Ю. Смирновой.
Ряд параметров наивных представлений о языке и слове действительно позволяет сравнить данные обыденные понятия с системой мифов. Как и миф, бытовая философия языка а) является элементом общественного сознания и разделяется практически всеми членами социума; б) является, по сути, коллективным бессознательным, точнее не до конца эксплицитно осознанным; в) является «руководством к действию» и выполняет регулятивную функцию; г) является средством «быстрого реагирования», «упаковки» знания в прототипы, формулы и схемы действий; д) является потенциальным нарративом: то есть, не всегда формулируется, но может быть сформулирована, е) метафорична по способу репрезентации. Дж. М. Лолер, солидаризирующийся с Лакоффом, считает миф разновидностью метафоры (что, разумеется, следует рассматривать скорее как риторический приём самого Лолера, а не как слишком далеко заходящее обобщение), универсально известной и используемой в культуре, либо субкультуре и большей частью неосознаваемой по самой своей сути (largely unconscious in nature, ‘cultural unconscious’), благодаря именно своей универсальности (Lawler 1999). Лакофф также отмечает, что метафоричность онтологических метафор не осознается (Лакофф 2004: 52). Е. В. Улыбина отмечает близость языковой картины мира мифологической модели. Обыденное сознание является инструментом адаптации к окружающему миру, опирается на прототипические схемы понимания, имеет нерациональный характер, социальную природу (Улыбина 2001: 92, 99, 102, 104).
«Миф – это слово, избранное историей» (Барт 1994: 73), миф натурализует концепт, превращает историю в природу, «естественным путём продуцируя концепт» (Там же: 96). Сравните с природной верой в естественность и «простоту» грамматики родного языка: Неужели эти англичане или американцы на самом деле («природа») пользуются всеми двадцатью шестью глагольными формами? Или это просто Вы нам их даете для обучения, а они, как и мы, в речи обходятся двумя обычными («простота») формами? (из интервью).
Как и миф, обыденное сознание, стремится к так называемой «экономии умственных усилий». В отличие от выводного знания, научных теорий, которые могут включать в свои формулировки и способ самовыведения, бытовые понятия служат скорее руководством к немедленному действию (размышлять «in the real world» ведь некогда). «Миф – это абсолютное знание, в котором невозможно выделение средств его получения» (Улыбина 2001: 73). Миф – сконцентрированный в одно мгновение план действия. Как указывал М. Мак-Люэн, «миф – мгновенное схватывание сложного процесса (myth is the instant vision of a complex process), который обычно захватывает более длительный период» (McLuhan 1996: 164)
Кстати, можно отметить ещё одно свойство обыденного метаязыкового сознания: оно никогда не имеет дела с собственно языком, всегда находясь на уровне речи. Именно в речи слово имеет одно значение (в крайнем случае, два, если имеет место «игра слов»). Неосознаваемо находясь под действием языка, как всеобщего «эха» лингвокультурного социума, пользователь делает выводы из конкретных произведений речи. Если включается память (о прежних речевых произведениях, об «отголосках»), обобщения начинаются с того, что в научной логике принято считать «ложными генерализациями». Для бытового мышления, впрочем, это вполне нормально, ведь оно ориентировано на вещь, на результат речедействия, на интенцию говорящего, на его волю и его желание. Прав Выготский, отмечая общность научного концепта и бытового понятия, но в то же время указывая и на диаметрально противоположные направления их развития: «Научное понятие нисходит к конкретному, житейское – восходит к обобщению» (Выготский 2006: 845). Это, кстати, объясняет и то, почему в постоянно развивающейся человеческой личности могут сосуществовать диаметрально противоположные взгляды, в том числе и на слово, на язык и речь. Научные взгляды не лучше и не хуже бытового мифа, просто это иной уровень обобщения, определённый иным уровнем общественных потребностей. Наука – не божественное избрание «небожителей», а роль отдельных, впрочем, также «наивных» – в своём интеллектуальном «происхождении» – пользователей в социальном разделении труда.
Выявить мифы довольно сложно, ведь вербализация мифа уже убивает отчасти его сущность. Миф является лишь потенциальным нарративом и чаще проявляется в схемах языкового поведения, нежели в рассказах или обобщениях наивных пользователей (ср. Лобок 1997: 489–491, 505). В то же время, как физики судят об элементарных частицах по их следам, так и миф можно «поймать за хвост» в рассуждениях наивных пользователей о языке. Такие рассуждения можно инициировать в эксперименте (анкетирование, интервьюирование, наблюдение за мета-дискурсом во время процесса коммуникации либо обучения и т. п.) – это, так сказать, «свежие следы». Можно и наблюдать «отпечатки следов», но не на окаменелостях, а в произведённых в рамках истории данной лингвокультуры текстах, в которых, так или иначе, затрагивается язык либо языки, слово, речь и другие элементы коммуникативной деятельности (например, пословицы, поговорки, прецедентные и не совсем ещё прецедентные тексты). Две эти сферы подбора материала для исследовательского корпуса пересекаются: пословицы или крылатые фразы в речи наивных пользователей, записанные во время интервью, либо, например, рассуждения о языке в ещё живых, далеко не прецедентных текстах в опосредованной интернетом «почти устной» коммуникации (ЖЖ – «Живой Журнал», форумы, чаты, блоги и т. п.).
Основным понятием наивной лингвистики, основным её элементом является «слово», ср. «концепт слова – это квинтэссенция наивной лингвистики» (Левонтина 2000: 290). Мифологизированное наивное сознание способно воспринимать двойственную природу слова, во-первых, как абстрактного и эфемерного явления: Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь. Или в китайской философии (даосизм, Чжуан-цзы): «Слова – не ветер, они что-то да значат. Но что они могут сказать нам, если смысл их непостоянен? Неужели они ничего не значат? Люди говорят, что слова — это не птичий щебет» (Фокс 2006). Но все же основной «крен» в интерпретации концепта слова связан с «вещностью», реификацией данной абстрактной сущности. Об этом же пишет (в отношении других абстрактных сущностей) и С. Г. Воркачёв: «языковое сознание «овеществляет» абстрактные сущности [с помощью метафор]» (Воркачёв 2004: 138), «счастье в поэтических текстах регулярно реифицируется – его можно унести, отдать, найти, поделить, его можно брать и грузить» (Воркачёв 2004: 119), любовь реже реифицируется (Воркачёв 2003: 63). Народная наука строится по законам мифа, партиципации, сходства, как метафора (Улыбина 2001: 111). Метафору как инструмент обыденного, языкового познания выделяет и Лакофф.
Базовый миф наивного пользователя связан с реификацией слова как вещи, высказывания как цепочки вещей («кубиков»), языка как набора вещей («мешка с кубиками», то есть, преимущественно словаря языка), коммуникации как передачи вещей, обмена вещами, перевода как простой замены слов (кубиков одного цвета на кубики другого цвета). У Лакоффа и других исследователей метафоры это называется «метафорой канала связи» (conduit metaphor). У. Матурана и Ф. Барела (в некоторых переводах, не учитывающих испаноязычное произношение имени этого автора, – Варела) также отмечают неудачный характер метафоры «коммуникации через телефонную трубку», ведь в коммуникации ничто и никуда не передаётся, информация создаётся или воссоздаётся получателем (Maturana 1987: 212).
Слово-вещь и ведёт себя, как вещь, допускает обращение с собой, как с материальным объектом, то есть, может даваться, браться, передаваться и т. д.: англ. before you give me your word (L: 3560 W: 27910); And I give thee my word (L: 6147 W: 62952); and he would die of grief if I did not keep my word! (L: 5217 W: 43203); the king took his word ill (L: 1207 W: 11328); Money, money, – he took the word into his heart (сердце здесь также воспринимается как вместилище для вещей) as a miser might do (L: 6063 W: 53652).
Слово-вещь связано с человеческим телом, которое его производит (здесь имеется в виду устное, произносимое слово): англ. He looked at her a moment, then by some effort choked down the word he would have spoken, and went on with his bitter confession (L: 6063 W: 53652); You know I’d never breathe a word to anybody (ACB 216); I regret that so much of the spoken word is now cut (J55 634). Но даже слово, исходящее из тела, – не просто «дыхание» или «сотрясение воздуха», его можно резать, разбивать, разрушать и т. п.: англ. I couldnae withdraw the plighted hand, Nor break the word once said (L: 1567 W: 14550). Из тела исходит материализованная субстанция, как видно и из следующего небольшого итальянского примера: usciva insieme parole e sangue (Dante Alighieri), либо из французского: J’ay un bon mot sur la langue, mais je ne le puis dire (Proverbes), либо из русского: слово вертится на кончике языка.
Нельзя сказать, что все контексты (глагольные и прочие) интерпретируют слово, как материализованную субстанцию. Во-первых, подавляющее большинство употреблений лексемы слово (или word, или соответствующей в ином языке) выявляется в неметафорических контекстах типа сказать, молвить, услышать слово. Метафоризация наступает, скорее, в тех случаях, когда говорящий пытается понять или объяснить действие или воздействие речи (речей, слов). Метафора здесь – как, впрочем, и обычно – является инструментом познания, прояснения, сравнения, объяснения и т. п. Многие из существующих метафор уже могут считаться стёртыми, и только по своей «внутренней форме» проявляют реификацию (взять, дать, take, give и т. п.). В английском, вероятно, имеет место обратная генерализация, придание более абстрактного значения (не отдельное ‘слово’, а, скорее, послание, информация, нечто неисчисляемое и не-вещное) в тех случаях, когда word выступает с нулевым артиклем: англ. “Go immediately,” he said, “and follow my son, and watch him so well as to find out where he retires, and bring me word” (L: 10500 W: 87518); One mornin’ my sister-in-law, who lived on the other side of the bay, sent me word by a boy on a horse that she hadn’t any oil in the house to fill the lamp (L: 4514 W: 40231) he sent word to the sick-chamber that he was coming up for his final visit (L: 3153 W: 29017).
Слова-предметы можно брать, их можно терять, бросать их, разбрасываться ими: Я-бывшая писала хайку и любила играть со словами; Иногда я прячу от тебя слова; все свои матерные слова в адрес рязанских дорог я беру обратно (Живой Журнал); Забираю все плохие слова про своего Вовку; Занят бездельем, играю словами; А ты бы такими словами не разбрасывался пока не разобрался что к чему (Блоги на Яндексе).
Глагольная сочетаемость лексемы слово свидетельствует и том, что слова могут обладать качествами материального предмета (разумеется, в пределах дискурса). Они могут быть настолько велики, что за ними можно спрятаться: ведь легче всего спрятаться за всеобще излюбленными словами (Живой Журнал); между вами – СТЕНА из сотен дней, сказанных слов, пережитых чувств и колющих воспоминаний (Блоги на Яндексе). В дискурсе о словах встречаются и сочетания собственно с прилагательными, обозначающими качества материальных предметов: и из уст его, одно за другим, стали падать тяжёлые слова, налитые тоскою и гневом (пример О. Ю. Смирновой); Бьются каменные слова; Лишь – словами; Какого цвета слово ‘майявада’, или какое на вкус? (Живой Журнал); Спасибо за тёплые слова))) как миражи со временем рассеются слова исчезнет пелена (ICQ, Суперёныш, 22:36:22, 3/04/2007); англ. Skepticism Is Not A Dirty Word (Google Blogs); Well you can’t get a word in edgeways (ср. рус. вставить острое словцо), can’t (именно так в оригинале) you? (KBG 532). Несколько примеров из других языков: итал. Queste parole di colore oscuro; io userei parole ancor più gravi; con la tua parola ornata (Dante); франц. Une parole douce ne blesse pas la langue (Proverbes).
Вероятно, одним из самых существенных качеств слова является его товарная «стоимость»: конечно, если ваши слова чего-то стоят (Живой Журнал). Стоимость напрямую связана с эффектом, производимым словами, с воздействием слов: Paul described the members of the church as the men of God, when he told Timothy about the value of God’s word (GX1 844). Подобная метафора встречается и в научной лингвистике, например, в концепции, П. Бурдье о рынке лингвистических действий и символическом (словесном, знаковом) капитале.
Наконец, слово само может ожить и действовать, бегать, летать и т. п.: англ. My soul was shaken with immediate pain / Intolerable as the scanty breath / Of that one word blew utterly away (L: 1682 W: 15174); A word that began to go round, a word, a whisper, a start (L: 1567 W: 14550); Это слово сказало Календарное Безумие, этим словом улыбались, щурясь от ярких солнечных лучей, растрёпанные утренние улицы (Живой Журнал). Связь слова с действием подчёркивается постоянно: Моё творчество это крик в массы, те самые слова, которые могут изменить судьбу человека и вашу судьбу и мою тоже; женщина с виду холодная, малоэмоциональная, ценящая эффект слов и действий (Живой Журнал). англ. YOU’RE NOT the only one whose heart sinks at the sight of the word ‘megamix’ (CK6 1198).
Известно, что и в паремиологическом фонде языков также сопоставляются слова и действия, слова и факты (итал. dove bisognano i fatti, le parole sono d’avanzo). Действию всегда отдаётся аксиологическое предпочтение, что говорит о том, что реификация слов в народной лингвистике не стопроцентна; признаётся, что собственно материальные предметы и действия в жизни более эффективны: Воистину, иногда и мешок слов – самых даже отборных:) – не возымеет столь оглушительного успеха, как «...ресницами взмах, – только взмах!» (Блоги на Яндексе); Все эти страшные слова сделали своё дело (Живой Журнал).
«Пустое действие» оценивается очень низко, как потеря, пустая трата: итал. Chi vuole insegnare a volare agli asini, si perde il tempo, le parole e i passi. «Невротическая коммуникация» с большим количеством (видимо, «пустых» слов) слов также оценивается отрицательно: Много слов – мало дела, словесный понос, word vomit, words are the fool’s money.
Наивная онтология языка, принимающая слово за вещь, считает язык набором таких вещей: Слова находятся в языке (студентка, 16 лет, эта формулировка повторяется в анкетах и интервью очень часто); Язык – совокупность слов и правил их использования (студент, 17 лет); Язык – это сбор слов, которые мы узнали из достоверных и доступных источников. Язык находится в воздухе со звуками (школьница, 12 лет); Язык – совокупность слов и правил + образ мышления (студент, 18 лет). В последнем случае (и это не единичный ответ) у наивного пользователя складывается не только накопительное представление о языке, но и представление о его функциональном назначении. Обыденное сознание способно включать в себя параллельные, а иногда и прямо противоположные принципы. Весьма часто иной принцип отражает познавательное развитие индивида, либо культурно-индуцированный (как правило, обучением) взгляд.
Язык – место расположения слов, ведь любая вещь должна где-то находиться в пространстве. Это (в качестве пресуппозиции) признает даже следующий респондент: В связи с пустотной сущностью материального мира невозможно определить их [слов] положение в пространстве, потому что пространство относительно (студент, 19 лет). Или вот ещё пример наивной топологии слов языка: Язык это сочетание звуков произносящих человеком из области рта, с помощью которых люди общаются. Сам язык находится чуть выше носоглотки <…> Слова содержатся в легких с воздухом, при выдыхании они нередко могут вылететь самопроизвольно. Визуально их можно наблюдать в различных словарях (студент, 19 лет, сохранены орфография и стиль оригинала). Противоречиво может быть и соединение абстрактного, виртуального и конкретного, актуального в положении и движении слова: Слова слетают с губ, значит находились они в сознании (медсестра, 22 года).
Как отмечает Д. Ю. Полиниченко, «в русском языковом сознании язык представляется как пространство особого рода – хранилище букв, слов, выражений и образов» (Полиниченко 2004: 98). Возможно, в этом случае мы также сталкиваемся с эпистемологической универсалией: познание легче осуществляется, если его предмет или предметы дискретны, конкретны, чётко выделимы, «просты». В анкетах многих исследователей параметр «простоты» (языка, слова, иноязычного слова, предмета, любого «знания» и т. п.) соотносится с не-абстрактностью, желанием получить «порционное» знание, набор изолированных и даже неизменных bits of information (Schommer 1995: 424–425; Mori 1999: 386–389). «Понимание нашего опыта в терминах объектов и веществ позволяет нам вычленять части опыта и обращаться с ними, как с единообразными дискретными сущностями или веществами. Стоит только отождествить части нашего опыта с объектами или веществами, появляется возможность ссылаться на них, относить их к определённым категориям, группировать и определять их количество – и тем самым размышлять о них» (Лакофф 2004: 49).
Внутреннее строение слова также дискретно, слово «состоит» из значений: two meanings packed into one word (пример О. Ю. Смирновой). Слово-вещь состоит из мелких вещичек-значений, которые исчислимы. В родном языке значение одно, либо их немного, в иностранном языке значений у слова много. Здесь опять же не столько обобщение «результатов исследования», сколько отражение микромира вторичной языковой личности, её страхов и трудностей в изучении чужого языка. Одно значение – легко, много значений – трудно, следовательно, иностранный язык трудный – трудность коррелирует с простотой, дискретностью, порционным характером знания (ср. Mori 1999: 396). Есть и представление о том, что слова складываются из букв (в наивном сознании это гибридное образование, фактически, звукобуква): Слова находятся в голове, мы складываем их из известных нам букв (школьница, 12 лет).
В родном языке наивный пользователь сталкивается с речью, с отдельным экземпляром слова в текущем хронотопе. Иностранный же – именно язык, а не столько речь – сразу является ему в образе Мюллера, Дудена, Лярусса и т. п. гигантов. Это отмечается и интервьюируемыми: Откуда Вам стали известны значения слов? – Родных – пока я росла, от родителей, друзей и т. д. Иностранных – в школе, из словарей (студентка, 19 лет); Значения слов родного языка становятся известными из окружающего мира, из опыта общения. Значения иностранных слов – из словаря и от преподавателя (студентка, 20 лет); Над тем, как я узнала значения русских обиходных слов, я никогда не задумывалась, я знала их как-то сама по себе, с детства, из общения. Иностранные слова в основном сплошь из словаря, от учителя, из учебника (студентка, 19 лет).
Укреплению мифологемы вещности, в особенности, в отношении иностранного слова, способствует и тот факт, что иностранный язык воспринимается не столько как средство общения, сколько как «предмет», который необходимо выучить (объектное обучение). Отсюда следует и процедурная мифологема: чем больше слов выучишь, тем лучше будешь знать иностранный язык. Освоение иностранного языка связывается с накопительной памятью, а не с развитием навыка общения (субъектно-ориентированное обучение). В этом случае мы опять видим связь мифологемы с действием, с деятельностью пользователя языка.
В анкетах и интервью встречаем следующие высказывания: У русских – 2-3 значения [слова], а у американцев – от 1 до… xn; в русском у слова не часто бывает несколько значений, но в английском у слова может быть много значений, и это бывает часто; в русском языке таких слов немного, но в английском предостаточно; по моему мнению, слово имеет немного [значений] но пару штучек точно (студенты 19-20 лет); русский – может иметь как минимум два, также играет роль интонация. Иностранный – ещё больше и т. п. Для следующих респондентов незаметна арифметическая «нестыковка» в собственных воззрениях: Некоторые [слова] до 5-7 значений. Наш язык в 3 раза многообразнее (женщина, 30 лет); В русском языке в среднем два и более [значения у слова]. Русский в десять раз многообразнее их языков (женщина, 43 года); В зависимости какое слово, следовательно может быть и три, и пять значений. Русский язык более сложный и многозначный, чем любой (!) иностранный (женщина-дизайнер, 24 года, восклицательный знак в скобках поставлен респондентом).
Более положительная оценка родного языка по параметру «богатства», «сложности» (и практически тут же – по противоположным параметрам «простоты» и «ясности»!) характерна для носителей, скорее всего, любого языка. Вот ещё несколько оценок «богатства» значений русского слова: Русский во много раз витееватее (мужчина, 43 года); Наш значительно богаче [на значения слов] (женщина, 33 года); Русский во много раз богаче (мужчина, 45 лет); Наш в три раза круче (женщина, 29 лет). Интересно, что сколько-нибудь серьёзного знания «их» языков у большинства данных респондентов замечено не было. И как только респонденту нужно проявить не «патриотизм», а оценить свои успехи в изучении чужого языка, количество значений в последнем «увеличивается»: [несколько значений] в родном языке – некоторые слова, в иностранном языке – некоторые слова – огромное количество (служащая, 22 года); в родном языке – как минимум два, в иностранном языке – множество (служащая, 22 года); Конечно, очень часто. В родном языке – сколько угодно, в иностранном – ещё больше, чем сколько угодно (курсант, 18 лет). У таких респондентов, как правило, ответ на один из прочих вопросов анкеты выявляет их знакомство с процессом освоения чужого языка: [часто ли вы думаете о языке, словах, речи?] – При общении с другими людьми, особенно с иностранцами (студентка, 18 лет); Редко, когда идёт урок иностранного языка (курсант, 18 лет); при изучении языков (учитель, 30 лет). Приобщение к «научным» понятиям, изучение чужих языков разрушает мифологему моносемии или, наоборот, «крутизны», родного слова (а фактически, большей понятности, «простоты», уверенности в значении): Очень часто; например, глагол ‘идти’ имеет около 30 значений (согласно словарю Ожегова). В английском – то же самое (студент, 18 лет). … Продолжение »