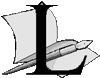|
Аспекты языка и коммуникации
серия научных трудов по филологии и теории коммуникации под редакцией доктора филологических наук, профессора В.Б.Кашкина Продолжение серии "Теоретическая и прикладная лингвистика" (1999-2002) в формате монографий (или коллективных монографий), издаётся с 2008 года В.Б.Кашкин. Парадоксы границы в языке и коммуникацииСерия "Аспекты языка и коммуникации". Выпуск 5. - Воронеж: Воронежский государственный университет; Издатель О.Ю.Алейников, 2010. - 382 с. ISBN 978-5-904686-08-6 © В.Б.Кашкин, 2010 |
|
|
3.2 Научные теории и бытовые представления о языке: история и перспективы исследования«… теория – это пробное выражение того, что человек разглядел в накатывающихся волнами событиях жизни как правильный, закономерно повторяющийся рисунок» Джордж А. Келли Противопоставление бытовых и научных представлений коренится в истории человеческого познания. Бытовое представление о знаниях говорит, иногда весьма эмоционально, об «учёных» и «неучах», хотя в рамках наивной эпистемологии часто встречается и прямо противоположный взгляд: «заумное» противопоставляется «простому и понятному». Тем более наука о языке – явлении повседневном, в отличие, например, от «квантов» или «ДНК» – для «человека с улицы» представляется пустой тратой времени, изучением того, что «давно всем известно» (это цитата из интервью с одним из респондентов). Об этом, в несколько иных исторических условиях, писал ещё Э. Сепир (Сепир 2003: 139-141). Юмористы, желающие насмешить «человека с улицы», апеллируют именно к этой черте обыденного сознания – стремлению к простоте и понятности. Хотя критика в адрес лингвистов, безмерно плодящих новые термины и жонглирующих ими, звучит часто и справедливо внутри самого научного сообщества, все же ирония «со стороны» по поводу якобы научной зауми не всегда оправдана, поскольку подменяет аудиторию – адресата научного сообщения. Так, уважаемый и весьма глубоко мыслящий юморист М. Задорнов иронизирует по поводу научного определения концепта «счастье» в также весьма глубокой (для своих задач и своей аудитории) монографии С. Г. Воркачёва (Воркачёв 2004), хотя простые и понятные рецепты того, «как стать счастливым» следовало бы искать не в научной монографии, а скорее в «женском журнале». Разделение на «лингвистов» и «нелингвистов», «учёных» и «неучёных» вовсе не так трагично, как подсказывает близкое к последнему слову русское слово «неуч», а связано всего лишь с процессами разделения труда в обществе. Изучая язык профессионально, лингвист (теоретик или даже практик) создаёт особый аппарат научных понятий, тем самым отделяя сферу научного дискурса от дискурса бытового. Но дискурс – это речь, сопряженная с действием, и употребляемые в ней слова определяются потребностями той сферы деятельности, в рамках которой складываются соответствующие дискурсивные практики. Нельзя оценивать смыслы, нормы, узус и коннотации одной подсистемы, опираясь на другую. В то же время, отделение науки как специфической сферы человеческой деятельности было предопределено общественными потребностями. Наука, таким образом, не является изолированной сферой для избранных и в своих технологических, прикладных, мировоззренческих и т. п. аспектах должна ориентироваться на общество и его отдельных представителей, «людей с улицы». Потребность в научном понимании нужна не только учёным, ведь и «человек с улицы» получает образование, имеет дело с явлениями природы и артефактами, технологическими процессами, приборами и изобретениями. Научное знание адаптируется в виде учебной литературы, справочников, энциклопедий, популяризаторских изданий и т. п. Достижима ли мечта (или программа?) Вильгельма фон Гумбольдта о создании такой научной энциклопедии языков, пользоваться которой «будет легко даже менее образованным людям» (Гумбольдт 1985: 347)? Но наивные пользователи языка не ждут создания такого универсального знания, равно понятного как профессионалу, так и непрофессионалу, ведь обращаться с предметами и явлениями, общаться друг с другом и изучать чужие языки им приходится уже сейчас или приходилось ещё вчера. Именно в обыденном познании и появляются первые зачатки будущего научного знания. Как отмечает упомянутый уже С. Г. Воркачёв, «в обыденном сознании в рудиментарном или зачаточном состоянии присутствуют ‘дички’ всех бывших, существующих и будущих научных теорий, верных и ошибочных» (Воркачёв 2004: 84). Каков статус, например, древнегреческих φύσει и θέσει – следует ли считать их научными теориями, либо всё же прото-теориями? Ведь в Древней Греции наука только оформлялась, отделяясь от обыденности. Известный диалог Платона, в каком-то смысле, это диалог интересующихся «продвинутых» пользователей (уже-не-«чайников», если воспользоваться – с известной долей иронического преувеличения – жаргоном современного околокомпьютерного дискурса). Не зря сам Платон (в лице Сократа) слегка дистанцируется как от Кратила, так и от Гермогена, подчеркивая диалектичность двух вышеупомянутых крайних интерпретаций знаковых отношений. То же самое, видимо, справедливо и для двух переводческих подходов, известных ещё со времён св. Иеронима: verbum e verbo в противовес sensum de sensu. Не вдаваясь в подробности этих взглядов, отметим, что формируются они в рамках познания, первоначально бытового, но стремящегося уже к научным обобщениям. Отметим также типичную для обыденного сознания противоречивость, отражающую, видимо, жизненную, «стихийную» диалектику (выражение Ф. Энгельса). Изучению взаимодействия обыденного и научного познания посвящена довольно обширная литература в сферах философии, психологии, социологии и т. д. Помимо И. Канта, Э. Гуссерля, А. Ф. Лосева, В. И. Вернадского, Дж. Келли, серьёзный вклад в установление сходств и различий обыденных представлений и научных понятий внес Л. С. Выготский, отмечавший отсутствие чёткой грани между научным и обыденным, возможность их «встречи» в рамках отдельного познающего субъекта: «Научное понятие нисходит к конкретному, житейское – восходит к обобщению» (Выготский 2006: 845). Начиная с Э. Гуссерля, в своё время заявившего, что «философия и есть жизнь» (видимо, справедливо и обратное равенство, как Weltleben обращается в Lebenswelt, и наоборот), интерес к повседневной философии и наивной науке возрастал на протяжении всего ХХ столетия, хотя и сейчас можно встретить исследователей, иронично воспринимающих выражения «наивная география», «наивная физика», «наивная математика» и т. п. Для Гуссерля невозможно было пренебрежительное отношение к слову «наивный», «естественный»: «дотеоретическая жизнь» предшествует, по его мнению, собственно теории; в ней также присутствует критическая рефлексия, но в практически ориентированной организации и лингвистически традиционной форме (Husserl 1970: xxxix-xli). Обращение на новом этапе к дотеоретическому, эйдетическому, народному, наивному (список определений довольно обширен, и его можно продолжать) познанию можно связать, выражаясь словами того же Гуссерля, с «кризисом европейской науки», «потерей её значимости для жизни» (Husserl 1970: 5). Поиски выхода из кризиса осуществлялись в различных отраслях науки, одним из направлений поисков было установление оснований самой науки, познания, мышления – метанаучные, метакогнитивные исследования. В психологии, например, устанавливались общие основы мышления ребенка и взрослого, примитивного и современного человека, обыденного и научного познания (работы К. Леви-Брюля, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и их последователей). Спонтанные, житейские, с одной стороны, и научные понятия, согласно Выготскому, находятся в пределах одного и того же уровня, однако имеют совершенно различную историю и динамику развития (Выготский 2006: 920-921). Выготский исследует исторические, физические, лингвистические и другие житейские понятия ребёнка с помощью методики, близкой современному дискурсивному анализу (тесты с логическими операторами типа «хотя», «потому что» и т. п. Его ученик и последователь П. Я. Гальперин (хотя и не только он) подчеркивал характер языка как практического сознания: «языковое сознание народа отражает вещи в целях руководства поведением» (Гальперин 1973: 131). Подобная методика используется и ныне, в том числе и в прикладных лингвистических исследованиях дискурсивного поведения изучающих язык (Potter 1996; Калая 2002: 100-102). В фокусе внимания здесь даже не столько язык (наивная лингвистика), сколько процесс его изучения, процесс познания (наивная металингвистика, метакогниция). В то же время в метакогнитивной способности человека можно выделить ещё два измерения, как это сделал один из учеников Пиаже, Дж. Флейвелл: знание о познании (когниции) и управление познанием (регуляция когниции, когнитивный мониторинг) (Flavell 1979: 906-911; Perfect 1993: 1). Пользователь языка также «организует собственную деятельность на этом языке и управляет ею», но к тому же может размышлять «о результатах и условиях этой деятельности, обобщать свой и чужой коммуникативный опыт» (Дуфва 2000: 81). Фактически, деятельность наивного пользователя языка включает следующие аспекты: собственно употребление языка для коммуникации и автокоммуникации, использование имплицитного знания возможностей языка в соотнесении с интенциями и инференциями пользователя (факторы и последствия выбора из возможного поля средств высказывания), по преимуществу имплицитная мифология языка и его единиц (слово – это вещь), эксплицитные прото-теории по преимуществу оценочного типа (как правильно говорить, как надо изучать язык, какой язык самый трудный и т. п.). То есть, в наивной лингвистике присутствуют оба типа знания: описательное, декларативное и процедурное, ноу-хау (Carrell 1989: 122), «знание, что» и «знание, как» (Милашевич 1989: 140-141). В сфере языковой деятельности достаточно трудно провести границу между знанием и употреблением. Метаязыковая сфера включает как мониторинг употребления (преимущественно метаречевая составляющая), так и имплицитные знания, «молчаливые знания» (по Витгенштейну), могущие, впрочем, быть эксплицитно выраженными. Возможно, следует пересмотреть и развести термины «наивная лингвистика» и «наивная металингвистика»: первая сфера связана с наивными представлениями о языке, бытовой философией языка, вторая же – с жизнью пользователя в языке, с его отношением к изучению языка, наивными лингвистическими технологиями и т. п. Многие процессы в наивной лингвистике сопоставимы с процессами метакогниции и когнитивного мониторинга в других сферах бытового познания (Schraw 2001: 3). Представления о познании и способы управления собственным познанием исследовались – преимущественно на Западе – в сферах изучения родного и иностранных языков, истории, математики, физики, химии и т. п. (Lave 1988; ан Нгуен-Ксуан 1996; Wenden 1998; Lerman 1999) Глобальным выводом было признание того, что метакогнитивный аспект играет существенную, даже критическую роль собственно в познании. Основной – или единственный? – способ познания (причём, как бытового, так и научного) – язык. У. Матурана, для которого todo hacer es conocer, y todo conocer es hacer («любое действие есть знание, а любое знание есть действие»), как известно, признаёт человека «‘языкующей’ живой системой (languaging living system)», все различия, составляющие собственно познание окружающего мира, проводятся человеком в сфере языка (domain of language) (Maturana 1990: 12). Близкая идея познания и образования, опосредованного языком, лежит и в основе концепции «language awareness» Э. Хокинса (Hawkins 1991), редколлегии одноименного журнала и авторов одного из томов «Encyclopedia of Language and Education» (том так и называется: «Знание о языке» – «Knowledge About Language»). Использование языка означает выражение нашей человеческой сущности (humanity) и сотрудничество с другими в создании нашей общей реальности (common reality) (van Lier 1997: XI). Э. Хокинс в связи с этим предлагает новый тривиум современного образования, опосредованного языком: «родной язык – awareness of language – иностранный язык» (Hawkins 1991: 36-37). Впрочем, не только теоретические, но и практические разработки подобного подхода (через родной язык и метаязыковую компетенцию) предлагались ещё с 70-х годов в нашей стране учеником П. Я. Гальперина В. В. Милашевичем в его концепции «опережающего обучения» и «языковой модели взаимодействия человека с природой», «экологизации познания» (Милашевич 1989: 142-144). Автор знаком не только с теоретическими публикациями, но и активно преподавал вместе с В. В. Милашевичем, а также совместно с ним разработал и применял на практике пятиязычный курс обучения чтению и пониманию текста. Ещё один существенный момент, объединяющий представления о знании («epistemological beliefs») в разных областях – реификация абстрактных сущностей, представление знания как набора дискретных, почти вещественных элементов, порций: «знание обладает качествами простоты, определённости, передаётся («handed down») авторитетным лицом» (Schommer 1995: 425); «concepts are things – mental objects» (Lerman 1999). Ср.: Неужели эти англичане или американцы на самом деле пользуются всеми двадцатью шестью глагольными формами? Или это просто Вы нам их даете для обучения, а они, как и мы, в речи обходятся двумя обычными формами? (из интервью). Естественность, «природность» бытового знания роднит его с мифом, что отмечают многие исследователи обыденного познания (Улыбина 2001: 92-104) и наивных представлений о языке (Horwitz 1987: 119). Изучению бытовой лингвистики уделялось всё же гораздо меньше внимания, что отчасти объясняется и нежеланием самого бытового сознания принять операции над самим собой за необходимость. Изучение не внешнего мира, а самого изучающего субъекта связано с так называемым «парадоксом границы», когда субъект и объект гуманитарного знания – в определённом смысле – совпадают. Ауторефлексия кажется пользователю языка либо ненужной («в языке всё известно»), либо даже опасной (в особенности в ситуации языковых и культурных контрастов: «эти странные не-мы»). Довольно сильная предубежденность сообщества самих лингвистов против «непрофессионального» взгляда на язык также повлияла на то, что взгляды наивных пользователей на язык всерьёз и последовательно не изучались вплоть до второй половины – или даже последней четверти – ушедшего столетия. Можно упомянуть, например, иронизирование по поводу «народной этимологии», противопоставление «чистой», «настоящей» науки и прикладных разработок, лингвистики и методики преподавания языков («курица – не птица, методика – не наука»), языкознания и практики преподавания и применения языка (ср. Kramsch 1995: 43-56) и т. п. В то же время «чистая» наука вовсе не создаёт язык, а использует его как питательный материал. Создают же языки «language makers» (Harris 1980), простые люди: «... языки составляются не учёными людьми, но людьми, и не одними рассудительными, но всякими» (Сумароков 1955: 42). Но именно «простые люди» верят в то, что «правила языка создаются учёными» (из интервью). Сами же «простые люди» склонны ошибаться, искажать, портить язык («мы не носители языка – мы разносчики» – из интервью). Жалобы на порчу языка традиционны во многих лингвокультурах и получили английское название «complaint tradition» (Milroy 1985: 29), хотя и в русской (особенно, в советской, традиции) явление это существовало и существует в виде «писем в редакцию». Ошибками при этом чаще всего считаются только орфографические ошибки (в родном языке), о других наивному пользователю мало что известно, но и «орфограффию» тоже придумали зловредные ученые-русисты и «училки» «для остраски» (Голев 1999: 99-100). В отношении нормы языка и реальности его использования (отклонений, ошибок, девиаций) сложилось два противоположных мнения: нормотетическое и нормонадзорное, «этикетное», «linguistic etiquette» (van Lier 1997: XII), с одной стороны, и признающее созидательный, творческий характер языковой стихии, с другой. Автор знаменитой «Грамматики ошибок» называл последний из упомянутых подходов «функциональным»: потребность определяет употребление (Frei 1929: 27-28). Ошибки давно не рассматриваются и в методике преподавания как нечто постыдное и достойное порицания, а скорее, как источник размышлений, выявления межъязыковой специфики, скрытых ментальных процессов и наивной процессуальной лингвистики, наивной технологии самообучения (Nickel 1986: 1400-1402; Дебренн 2006: 8). Человек всегда учится сам, выдвигая гипотезы и проверяя их. Ещё Гумбольдт подчеркивал, что «языку нельзя обучить, можно только пробудить его в душе». К тому же, сфера языковой деятельности человека выявляет настоятельную потребность в ауторефлексии: как лучше использовать язык для достижения своих целей, чем моё использование языка отличается от языка моего собеседника, чем наш язык отличается от других и т. п. Эти вопросы задают себе не только лингвисты и не столько лингвисты. До появления научной лингвистики и сейчас, наряду с ней, эти проблемы в явной, либо неявной форме решают наивные пользователи языка. Ситуация диалога (другой человек – другое использование языка) и тем более диалога культур (другой язык – другое понимание мира) неизбежно приводит к метаязыковым выводам и обобщениям, в первую очередь, именно на уровне обыденного сознания. Размышления о языке, как видим, появляются в пограничной сфере (свой–чужой язык) (Кашкин 2006: 19-20). Такие размышления появляются и в пределах одного языка, например, при столкновении двух его знаковых систем: письменной и устной (Голев 2000: 338). Вышеупомянутые пограничные сферы, связанные с «повышенной» метаязыковой активностью, вписываются в предложенную автором статьи несколько лет назад схему языковых контрастов индивидуальных и социальных языков (Кашкин 1995: 79, см. также раздел 1.1 данного издания). Бытовая лингвистика, повседневная философия и мифология языка, наивное представление о языке, наивная картина языка, народная лингвистика, folk models, beliefs, myths, Sprachbewußtheit, language awareness и т.п. попали в центр более пристального внимания исследователей ближе к концу ХХ века (достаточно подробную библиографию можно найти в (Кашкин 2002: 31-34)). Сложились два основных направления исследования бытовых представлений о языке: экспериментальное исследование и исследование концептов языка, слова, речи в текстах. Первое из них развивалось преимущественно на Западе. Это были, большей частью, исследования представлений об изучении иностранного языка: «language learning beliefs». Были созданы и опубликованы соответствующие опросники, например, BALLI (Beliefs about Language Learning Inventory) и SILL (Strategy Inventory for Language Learning) (Horwitz 1987: 120; Калая 2002: 103-104). Второе направление – исследование отражённых в текстах и фольклоре лингвоконцептов, «наивной картины языка», что говорит «язык о языке» – развивалось преимущественно в нашей стране (Арутюнова 2000: 7-19; Полиниченко 2004) В последнее время экспериментальные исследования появляются и в России (Голев 1999; Кашкин 2002; 2006; 2007; Дебренн 2006). В нашей стране в большей степени были представлены исследования – начиная с Выготского – психологических оснований бытовых и научных понятий, обыденного и научного сознания, научных понятий, как «зоны ближайшего развития» понятий житейских (Выготский 2006: 843-845; Улыбина 2001). Представления о языке и языковых процессах получают различное наименование: бытовая философия, мифология, представления, мифологемы, концепты и т. п. Автор предпочитает считать систему взглядов наивного пользователя о языке повседневной или бытовой философией языка, а отдельные элементы этой мифологизированной системы – мифологемами или мифами. Понимание мифа в данном случае следует концепциям – полностью или частично – М. Мак-Люэна, Р. Барта, М. Элиаде, А. М. Лобка, А. В. Блинова, Е. В. Улыбиной. Представления о языке, слове, действиях со словами обладают качествами мифа, поскольку а) являются элементом общественного сознания и разделяются практически всеми членами социума; б) являются коллективным бессознательным, точнее, не до конца эксплицитно осознанным; в) выполняют регулятивную функцию; г) являются средством «быстрого реагирования», стереотипизации действий; д) являются потенциальным нарративом, то есть, могут быть выражены вербальными прото-теориями; е) метафоричны по способу репрезентации (Кашкин 2007: 101). Деятельностный аспект мифа особенно интересен в исследовании представлений пользователей о собственном обучении языкам. «Миф – это абсолютное знание, в котором невозможно выделение средств его получения» (Улыбина 2001: 73). Миф – сконцентрированный в одно мгновение план действия («the instant vision of a complex process») (McLuhan 1996: 164). Но ведь и речевое действие является одномоментным, неосознаваемым пользователями с точки зрения факторов и деталей его совершения. «Остановленное» в целях обучения либо исследования речевое действие становится почти «артефактом», лингвистическим объектом, во многом теряющим качества естественности совершенного пользователем выбора. «За кадром» остаются (хотя, разумеется, могут быть дешифрованы или восстановлены) факторы выбора и интерпретации, временнáя перспектива, ситуативные и социальные моменты и многое другое. Виды мифологем с примерами из интервью и литературы приводились в предыдущих публикациях автора (Кашкин 2002; 2007). Интересным новым источником стали так называемые «блоги» («blogs»), письменные сообщения наивных пользователей, обладающие качествами устного спонтанного высказывания. Мифологемы можно разделить на когнитивные (реификация слов, естественная связь слова и объекта, дискретность семантики) и технологические (накопительное изучение языка, линейный перевод). Межкультурные мифы (о чужих языках) также включают когнитивные и технологические аспекты (чем отличается чужой язык vs. как с него переводить). Дальнейшие размышления позволят определить границы наивной онтологии («Язык – это сбор слов, которые мы узнали из достоверных и доступных источников») и топологии языка («Язык это сочетание звуков произносящих человеком из области рта, с помощью которых люди общаются. Сам язык находится чуть выше носоглотки <…> Слова содержатся в лёгких с воздухом, при выдыхании они нередко могут вылететь самопроизвольно. Визуально их можно наблюдать в различных словарях»), народной этимологии и глоттогенетики (Вавилонская башня как прото-теория), наивной коммуникативистики («я сама по телевизору видела, значит, правда!»), наивных лингвистических технологий в сфере общественной коммуникации, преподавания (технология самообучения), перевода («прежде, чем перевести текст, мне надо перевести все слова»), наивной типологии языков («Наш <язык> в три раза круче») и «бытовой контрастивистики» (Кашкин 1995: 78) и т. п. Возможно также уровневое разграничение наивной фонологии и фонетики («в английском языке все слова имеют ударение на первом слоге» – объяснение ошибки типа hótel, máchine и т. п.), наивной грамматики, наивной орфографии, а также других разделов (ср. Голев 2003: 177-180). В исследовании бытовой лингвистики можно наметить следующие задачи: 1) необходимо определиться с терминологией, например, есть ли разница между «метаязыковым» и «металингвистическим» (как есть она между языком и лингвистикой); в продолжение этого: что находится «в голове наивного пользователя» – наивная лингвистика, либо металингвистика, либо и то, и другое, и что-то ещё; 2) уже сейчас ясно, что есть вербализованные и невербализованные представления о языке, проявляющиеся через выбор наивного пользователя в пользу того или иного оформления своего речедействия; далее, есть статические представления о том, что такое язык и как он устроен, и динамические, процедурные, технологические представления и собственно приёмы и действия наивных пользователей; 3) из предыдущей задачи вытекает проблема проведения типологической классификации наивных представлений о языке по разным параметрам (к упомянутым выше можно прибавить, например, внутриязыковые или внутрикультурные и внеязыковые, межкультурные мифологемы); 4) существует задача (опираясь, в основном, на идеи Выготского и его последователей) выявления соотношения научных понятий о языке и бытовых представлений в сознании одного индивида с учётом возрастной динамики и гендерных различий, вероятно, также и профессиональных, возможно, и других общественно маркированных различий (студент – преподаватель; переводчик-дилетант – переводчик-профессионал – переводовед и т. п.); 5) первичное сопоставление показывает сходство мифологем языка, выявленных в анализе текстов (вербализованных и «застывших» мифологем) и в экспериментальном исследовании с привлечением самих наивных пользователей – респондентов: Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ (Б. Окуджава) vs. Слова слетают с губ, значит находились они в сознании (из анкеты – медсестра, 22); требуется дальнейшая работа по обоснованию единой исходной базы этих явлений; 6) хотя утверждение о сходстве представлений об эпистемологических процессах в различных сферах разделяется практически всеми, не помешало бы целенаправленно и доказательно сопоставить в отдельном исследовании представления о языке и его изучении с представлениями из других сфер человеческого знания и познания; 7) опять же, несмотря на сходства базовых мифологем языка у различных народов, на многочисленные совпадения метафорических представлений в разных языках (Бьются каменные слова – англ. It Is Not A Dirty Word – итал. implorando la solita pesante parola – немецк. kein scharfes Wort – франц. Une parole douce ne blesse pas la langue), следовало бы поинтересоваться различиями в этих представлениях и их обусловленностью культурноспецифическими факторами; 8) внутри одной языковой культуры выделяются «естественные», «природные» мифологемы (связь предмета и знака) и мифологемы, явно навеянные образовательными установками, разграничению их и определению их особенностей также следует уделить внимание (ср. антиграмматизм желающих усвоить «разговорный язык без грамматики», восприятие грамматики как монстра: «What is Grammar? Who is she?» – это название одной из статей о студенческих страхах); контекстуальный детерминизм; орфографоцентризм и т. п.); 9) насколько универсальны культурно-индуцированные мифологемы, так, например, является ли орфографоцентризм свойством только русского лингвокультурного сообщества либо и некоторых других, или – в каждом существует своя мифологемная доминанта; 10) интересно, в первую очередь, с общественно-образовательной точки зрения, исследовать – даже с деконструктивистских позиций – статус авторитета в языковой деятельности (авторитет учебника и словаря, авторитет носителя языка, авторитет эксперта и т. п.). Следует особо отметить прикладной аспект исследований. Наивному пользователю необходимы услуги профессиональной лингвистики (теоретической, но чаще – прикладной): написать речь депутату или президенту, поставить дикцию губернатору, научить иностранному языку студента, перевести инструкцию для крема жене генерала и т. п. В таких случаях не всегда попадается под руку квалифицированный профессионал, весьма часто свои услуги предлагают «шаманы», по выражению Д. Болинджера (Bolinger 1980: 188). Всем известно стремление «человека с улицы» изучить иностранный язык «без мýки» (как было написано на одном чешском самоучителе). Прыткие предприниматели, уловив тенденцию, предлагают массу курсов, «методов» и «методик» изучения языка: «200 слов в день на теплоходе с сауной», «1500 английских слов за 7 часов + суперпамять?!». Рекламная посылка в данных примерах эксплуатирует мифологему вещности слова и накопительного характера словесной памяти (ср. Horwitz 1987: 119). «Чтобы знать язык, нужно знать много слов» (из интервью) – это типичное заблуждение наивного пользователя даёт возможность «пошаманить», ведь предлагаемое рекламой обучение акцентирует именно количественную, накопительную сторону обучения, закрепляя существующий миф, но отнюдь не «просвещает» пользователя, не формирует у него «научно обоснованную» ментальную модель. Слабую разработанность мотивационного компонента, связанного напрямую с ментальной моделью языковой деятельности в сознании наивного пользователя, отмечает в лингводидактике родного языка Н. Д. Голев (Голев 1999: 106). Прикладной аспект включает в себя и общественно-политическую составляющую: какой иностранный язык выбрать для изучения в школе («некрасивый» и «пригодный для войны» немецкий или же «пригодный для скандалов, пения и наименования блюд» итальянский); на что ориентировать изучение родного языка: на коммуникативные аспекты самовыражения языковой личности или же на мифологизированную орфографию (Голев 2000: 345-347) и т. п. Приемлемость того или иного языкового и коммуникативного поведения (немтырь – об одном губернаторе; матюгальщик – о другом и т. п.), коммуникативные и речевые идеалы (говорит, как по писаному; как по радио и т. п.) также значима как для теории коммуникативного поведения, так и практических его аспектов (моральных и юридических, например). Основные принципы общения (толерантность vs. агрессивность или агрессия vs. примирение) вытекают также из живой речевой среды (когда б вы знали, из какого сора…), даже из природных предпосылок существования человека как живого организма (Голев 2003: 174-176; Кашкин 2007: 22-23). Что изучение наивной мифологии языка может дать чистой лингвистике? Как представляется, оправдание и объяснение. Наивные пользователи получают «лингвистическое просвещение», лингвистика делает свою науку «экологически чистой». Наконец, возможна сфера смежных интересов наивной и научной лингвистики: исследование реального употребления, факторов выбора формального набора знаков в дискурсе, предпочтений пользователя языка. Разумеется, мифологема «правил и исключений» в явной и полной форме давно уже не разделяется официальной лингвистикой (как и упоминавшийся уже мифоконцепт «ошибка»); исследования реальной дискурсивной деятельности (в том числе и с привлечением информантов – наивных пользователей) проводятся достаточно давно и дают интересные результаты. Но все же в чем-то стоит согласиться с израильским исследователем И. Тобином, который считает, что традиционные категории и правила из «удобных инструментов» стали в последнее время превращаться в «инструмент для удобства» зашоренных лингвистов («wearing theoretical and methodological blinders») (Tobin 1993: 157). Близкая мысль звучала и в докладе британского исследователя П. Джоунза на конференции, посвященной Выготскому: традиционная лингвистика реифицирует абстрактные понятия и оперирует ими, как вещественными сущностями (Jones, 2006: 39]. Правила же в реальности оказываются не такими жёсткими, а категории не настолько вещественными. Их сущность, скорее, связана с вероятностным выбором, нежели с предписанием. Впрочем, об этом уже теперь достаточно большое количество лет назад писал В. В. Налимов (Налимов 1979: 108-111).
Кашкин, В.Б. Парадоксы границы в языке и коммуникации. Воронеж: Издатель О.Ю.Алейников, 2010. С.263-276. |