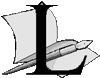М.Ляхтеэнмяки (M.Lähteenmäki, Ювяскюля, Финляндия)
Перевод и интерпретация:
о некоторых предположениях и мифологемах
В статье, с точки зрения диалогической философии, рассматриваются мифологемные аспекты метаязыковых знаний наивного пользователя языка о процессах перевода.
Введение. Метаязыковые знания так называемого наивного пользователя языка стали в последнее время объектом изучения в разных дисциплинах, например, в психологии, в когнитивной антропологии, в прикладной лингвистике. Данной проблематике посвящен ряд работ с разными теоретическими ориентациями [см. напр. Kamppinen 1993; Grotjahn 1991; Gombert 1992]. Под понятием метаязыковые знания мы понимаем здесь разнообразные представления, убеждения и мнения о языке и о разных формах языковой деятельности, а также их конкретные реализации как в речи индивидов так и в их речевой деятельности вообще. По такому пониманию, метаязыковые знания могут получить эксплицитную реализацию в речи индивида или, наоборот, они могут выражаться в более или менее скрытой форме в качестве различных пресуппозиций, имплицитных предположений и т. д. Следует отметить, что метаязыковые знания могут реализоваться не только на уровне языка, как часть пропозиционального содержания или возможных имплицитных значений актуальных языковых выражений. Само коммуникативное поведение человека, которое может быть тематически не связано с языком и его употреблением, может являться источником метаязыковых представлений данного индивида. Например, проверяя переводы студентов, легко делать выводы о их метаязыковых знаниях на основе того, какими переводческими стратегиями они пользовались в процессе перевода. Таким образом, метаязыковые знания реализуются, по крайней мере,- на двух уровнях: на уровне эксплицитных выражений (знание чего) и на уровне актуального поведения (знание как).
Предлагаемое нами понимание метаязыковых знаний близко к понятию мифа во многих аспектах, и метаязыковые знания можно анализировать также как мифы или мифологемы [см. Кашкин 1998, 91]. Проблема мифа изучалась многими исследователями, и само понятие мифа получило разные, нередко противостоящие друг другу, истолкования. В данной статье мы опираемся на идеи А.Ф.Лосева, в работах которого представлены как теоретическая разработка понятия мифа, так и глубокий анализ конкретного материала. Нам кажется особенно плодотворным то положение Лосева, согласно которому миф является для мифического субъекта не чем-нибудь выдуманным и идеальным, а именно подлинной жизнью, т.е. миф есть «жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность» [Лосев 1994, 14]. Тут не важно, являются ли мифические представления «правдоподобными», т.е. совпадают ли они с господствующей научной картиной мира или нет, а суть в том, что они феноменологически реальны и влияют на поведение индивида, осознает он это или не осознает. Таким образом, сопоставление мифов с научными истинами, или противопоставление им неплодотворно и искажает само понятие мифа, поскольку миф и научная истина представляют собой явления разных уровней [Лосев 1994, 14]. На наш взгляд, мифологический характер метаязыковых знаний проявляется именно в том, что возможное отсутствие достаточной по критериям науки степени эпистемической достоверности и адекватности отнюдь не суживает значимость таких представлений с точки зрения владеющего ими индивида. Несмотря на то, что метаязыковые знания наивного пользователя редко являются верными и истинными с точки зрения науки, они – независимо от степени их эпистемической достоверности – все же являются для него самой конкретной и непосредственной реальностью, неотъемлемой частью его повседневной жизни и видения мира.
1. Перевод как механическая замена слов. Наша повседневная жизнь полна ситуаций и эпизодов, являющихся интересными с точки зрения изучения метаязыковых знаний наивного пользователя языка. Например, переводческая работа, чем я время от времени занимаюсь, нередко возбуждает во мне интерес и к вопросам более теоретического характера, в частности, к проблемам теории перевода. Мой типичный клиент, как правило, спешит и хочет получить готовый перевод как можно быстрее. Отдавая свои документы, он нередко считает, что может посидеть минут десять у меня в кабинете пока я перевожу, чтобы сразу получить перевод с собой. Когда я пытаюсь объяснить ему, что перевод – «это дело тонкое», и за десять минут ничего не переведешь, он очень удивляется: «В чем дело? Просто замени русские слова финскими и все». Выражение «Просто замени русские слова финскими и все» очень много говорит нам о том, какие у данного человека представления о языке и о переводческой работе. В некотором смысле все подобные выражения, касающиеся языка и его функционирования, заключают в себе некую мини-теорию языка, и следовательно, их можно анализировать с точки зрения метаязыковых знаний наивного пользователя языка [см. Dufva & Lähteenmäki 1996]. Согласно представлению данного человека, процесс перевода является не чем иным, как механической заменой слов. Схожее положение можно ‘вычитать’ также из текстов многих студентов-филологов начального этапа обучения, у которых часто встречается стремление переводить тексты дословно. В данной ситуации в текстах не говорится о языке или о переводе прямо, но сами тексты и стратегии студентов говорят о том, что согласно их представлениям суть перевода в механической замене слов переводимого языка правильными словами переводящего языка. В дальнейшем попытаемся проанализировать и сделать более эксплицитной ту имплицитную мини-теорию – или мифологическое построение – которая стоит за приведенными выше примерами.
Язык – язык. Взгляд, по которому перевод можно редуцировать к простой замене слов одного языка словами другого, явно предполагает некий изоморфизм языков. Предполагается, что все лексические и грамматические единицы одного языка имеют точные эквиваленты в других языках, которые являются взаимозаменимыми между собой. С точки зрения профессионального лингвиста-филолога такое представление может показаться ненаучным и неправдоподобным, но если мы учитываем тот контекст, в котором разные представления связанные с разными аспектами языковой деятельности порождаются, оно становится нам более понятным и приемлемым. На наш взгляд, важнейшим контекстом с точки зрения формирования метаязыковых знаний бесспорно является школа и, в частности, уроки родного и иностранных языков, поскольку в школе ученик сталкивается с институциональным и общепринятым представлением о языке. В школе на уроках иностранных языков преподавание часто ведется так, что лексика преподается отдельно от грамматики. Ученики пишут упражнения по грамматике, и они должны работать над текстами с целью расширения словарного запаса. Через такие дидактические методические решения волей-неволей передаются те официальные представления о языке и об обучении иностранным языкам, которые лежат в основе конкретной преподавательской работы. В этом отношении можно с уверенностью полагать, что те теории преподавания и освоения языка, с которыми индивид посредственно сталкивается в школьной системе, оказывают сильное влияние на формирование его метаязыковых знаний и языковой картины мира.
Язык – реальность. Мы считаем, что с точки зрения мифотворящего сознания миф изоморфизма, как мифы вообще. является вполне логичным и когерентным. Рассматривая принцип изоморфизма в своем мифологическом контексте, как часть целого, мы замечаем, что он тесно связан с наивным представлением об отношении языка и реальности или даже является его логическим следствием. В соответствии с этим взглядом, нам дана единая и единственная реальность, которая существует независимо от языков и познающих субъектов. С другой стороны, несмотря на предполагаемую независимость реальности по отношению к познавательным процессам индивидов и системам репрезентации, полагается, что язык и познание все же имеют ‘свободный доступ’ к реальности, т.е. по этому взгляду структура реальности непосредственно отражается в познании и в языке [см. Rorty 1979]. Употребляя метафору Рорти, можно констатировать, что в соответствии с данным взглядом наивного пользователя языка, язык и познание понимаются как зеркало реальности, дискретный характер которых является следствием предполагаемой дискретности объектов реальности. Таким образом, для такого понимания характерно, что язык не считается средством концептуализации реальности, а полагается, что он лишь отражает структуру реальности, которая находится вне языка и других систем репрезентации. Из данного положения и из принципа изоморфизма языков вытекает, что слова разных языков одинаково называют готовые объекты и положения вещей реальности. Основной функцией языка считается его референциальная функция, а сам язык понимается как номенклатура, состоящая из названий для объектов и отношений между ними.
А каково представление о значении при таком понимании языка? Для положения, согласно которому языковые единицы лишь называют готовые объекты и положения вещей реальности, характерно, что отношение между языком и реальностью считается статичным по своей природе. Из статичности и предопределенности этого отношения, в свою очередь, вытекает, что в принципе каждое слово должно было бы иметь одно и только одно инвариантное ‘буквальное’ значение. Следовательно, когда нам дана единая и единственная независимая от языков реальность, слова одного языка должны были бы иметь эквиваленты в других языках. Такое положение особенно характерно для представлений таких наивных пользователей, которые не обучались иностранным языкам. Важно подчеркнуть, что аналитическое размышление над родным языком и его функционированием или сопоставление двух или более языков легко приводит к обратному выводу, что язык нельзя понимать как зеркало реальности, а разные языки и культуры концептуализируют мир по-разному.
Обосновано считать, что представление о языке и познании как зеркале реальности релевантно не только на уровне мифологических построений наивного пользователя языка но и на уровне науки, поскольку оно играло важную роль также в развитии западного философского мышления и научной картины мира [Rorty 1979]. Рассматривая вышеупомянутое представление и заключающуюся в нем имплицитную теорию языка, нельзя не заметить сходство с некоторыми положениями аристотелевского мышления, лежащими в основе западного видения мира. Согласно положениям аристотелевской традиции, объекты реальности даны, и у каждого человека идентичные ментальные репрезентации структуры этой реальности. К тому же, язык считается отдельным от мышления, а слова являются знаками, обозначающими репрезентации объектов реальности. Так, характерная для так называемых наивных теорий идея о буквальности значения встречается – в более элегантной форме – и в мышлении Аристотеля, как утверждает и английский лингвист Рой Харрис [Harris 1980, 27].
Так, мы считаем, что представление о буквальности значений нельзя называть лишь мифологическим, с намеком на его ненаучность. Согласно утверждениям Линелла и Ромметвейта, гипотезу о буквальности значения можно обоснованно считать одным из важнейших аксиоматических предположений лингвистической семантики [см. Linell 1988; Rommetveit 1988]. Согласно данной гипотезе, все языковые выражения имеют инвариантное, независимое от контекста значение, которое пытаются свести к совокупности атомарных семантических признаков. Мы считаем, что такие подходы (напр. генеративная семантика), полагающие, что язык является конечным множеством инвариантных правил, представляют собой весьма идеалистическое понимание языка. В этой тенденции отражается тот общий теоретический принцип рационалистического мышления, согласно которому уникальность и многообразие можно и необходимо свести к общим правилам путем абстракции [Lähteenmäki 1995, 78]. В этом отношении, можно без преувеличения сказать, что рассматриваемое нами выражение является не чем иным, как одной из реализаций этой типичной для западной культуры мифологемы буквальности значения.
2. Относительность интерпретаций и значений. Как мы выше уже отметили, знакомство с иностранным языком и с другой культурой с большой вероятностью содействует пониманию условного характера знаковых систем и систем репрезентации. К тому же, оно дает возможность посмотреть на свой язык и на свое видение мира с точки зрения другого, с позиции вненаходимости, и следовательно, обогащает наше понимание своего языка и своей культуры. Индивид, сталкивавшийся с иностранными языками и чужими культурами, не может не заметить тот наглядный факт, что языки концептуализируют мир по-разному. Кроме того, некая гетерогенность концептуализаций и интерпретаций встречается не только в межкультурном контексте но и внутри одного языка и культуры, так как ни один национальный язык – или культура – не представляет собой единую непротиворечивую интерпретацию реальности, а, как отмечено Бахтиным [Бахтин 1975, 83-84], характеризуется ‘действительным разноречием’ и расслоенностью. Таким образом, представление о языке как о единой инвариантной системе лингвистических форм можно считать идеалистическим и даже мифическим, поскольку то, что называется единым языком на самом деле складывается из разных социальных, идеологически наполненных языков, представляющих собой борющиеся точки зрения на реальность. Вслед за Харрисом [Harris 1980] можно даже полагать, что такое понимание языка является лишь весьма идеалистическим творением лингвистов, т.е. продуктом академического и институционального лингвицизма.
Из сказанного выше следует, что опыт знакомства с разными культурно-обусловленными и идеологически-обусловленными концептуализациями реальности, в принципе, должен был бы заставить индивида отказаться от мифологемы буквальности значения или, по крайней мере, серезно усомниться в ее правдоподобности. Кажется вполне логичным и разумным, что относительность концептуализации и существование разных противоречащих друг другу интерпретаций одного и того же явления могли бы привести к выводу, что реальность не дана непосредственно, а конструируется в определенном социокультурном контексте. Подчеркивание роли контекста и точки зрения, однако, легко приводит к релятивизму и ‘веселой относительности’, согласно которым ‘все подходит’. Сам термин релятивизм конечно имеет разные возможные истолкования [см. Rorty 1979; Совр. философия науки 1996], но все его сторонники, наверное, готовы согласиться с тем, что знание всегда условно и ситуативно по своему характеру. Что касается понятия значения, согласно релятивистскому пониманию вместо инвариантных значений имеется лишь бесконечное множество возможных интерпретаций с одинаковыми правами на существование и значения языковых выражений определяются контекстом употребления.
Несмотря на то, что наша каждодневная жизнь полна коммуникативных ситуаций, в которых конкуренция конфликтующих точек зрения и интерпретаций является как наглядный факт всем интерактантам, обосновано считать, что мифологема буквальности значения все же неосознанно влияет на наше повседневное коммуникативное поведение. Можно даже задать вопрос: не является ли мифологема буквальности значения в некотором смысле необходимой предпосылкой для осуществления любой формы общения, гарантирующей его разумность и смысл? Под этим мы имеем в виду, что с точки зрения индивида не было бы смысла общаться, если бы он не мог рассчитывать на устойчивость и интерсубъективность значений. Таким образом, если мы принимаем, в духе постмодернизма и релятивизма, альтернативную идею о том, что реальность относительна, и значений (авторов и т.п.) вообще нет, а мы в принципе имеем право приписывать любое значение определенному языковому выражению, то у нас нет гарантий в том, что наши слова будут услышаны.
Мы считаем, что мифологема буквальности значения и релятивистский подход представляют собой два противоположных направления с разными истолкованиями роли и задачи переводчика. Мифологема буквальности значения предполагает, что каждый текст имеет одно и только одно инвариантное значение, находящееся в тексте, и следовательно, у каждого текста есть только одна правильная, истинная интерпретация. Из этих предпосылок вытекает, что задачей переводчика является механическое кодирование подлинного текста на переводной язык, т.е. верная дубликация оригинального (авторского) смысла текста. Согласно постмодернистскому релятивистскому пониманию языка, вместо одного инвариантного значения текст имеет, как мы уже отметили, бесконечное множество возможных интерпретаций, что делает роль и задачу переводчика весьма неопределенными. Под этим мы имеем в виду, что переводчику опираться не на что, поскольку ‘все подходит’. Кроме того, ‘веселая относительность’ релятивизма неизбежно приводит к тому, что у нас нет никаких объективных критериев оценивать качество разных переводов одного и того же текста [см. также Chesterman 1997, 58]. Так, вышеупомянутые подходы к проблеме значения дают весьма разные ответы на вопрос: «Что является подлинным объектом перевода?», – и вместе с тем ставят переводчика в тупик. В дальнейшем рассматривается диалогическое понятие значения, представляющее собой альтернативу и мифологеме буквальности значения, и релятивистскому истолкованию значения.
3. Диалогическая альтернатива. С одной стороны, можно обоснованно считать, что смысл текста не дан в знаковом материале, а является по своей сущности эмергентным. Иными словами, смысл не упакован в лингвистический код, а порождается в диалоге между текстом и читателем. Интерпретация и понимание, как все формы человеческой деятельности, актуализируются в пространстве и времени, и следовательно, характеризуются перспективной обусловленностью. Вследствие своей перспективной обусловленности и ситуативности, все поступки, включая понимание и интерпретацию, являются уникальными и неповторимыми по своему характеру. С другой стороны, важно подчеркнуть, что присущая человеческим поступкам уникальность отнюдь не приводит к релятивистскому видению мира. Как отмечает Бахтин [Бахтин 1986, 89], философия которого не допускает никакой формы релятивистской онтологии или эпистемологии, из временности бытия не следует «правота какого бы то ни было релятивизма».
В своей философии языка Бахтин [Бахтин 1979, 262] определяет значение языковых единиц как их потенциальную роль в высказывании. К такому выводу пришел и Рагнар Ромметвейт [Rommetveit 1992, 22], согласно которому языковой знак представляет собой лишь открытый смысловой потенциал, получающий свое контекстно-специфическое значение в результате диалога интерактантов. Из того факта, что языковое выражение рассматривается как смысловой потенциал т.е. как множество возможных значений, однако не вытекает, что адресат может придать определенному языковому выражению любую интерпретацию. Интерпретация всегда, в большей или меньшей степени, управляется разными социальными и культурными конвенциями, общими для членов данного общества. Несмотря на то, что человеческий поступок в некотором смысле представляет собой уникальную ответную реакцию на предшествующие поступки других, совокупность возможных и вероятных способов реагирования дана культурой, и следовательно, интерпретация является социальной по своей сущности.
На первый взгляд диалогический подход и положение релятивизма могут показаться весьма похожими друг на друга во многих аспектах, так как оба подчеркивают ситуативность и перспективную обусловленность всех форм человеческой деятельности. Чтобы сделать разницу между этих подходов более эксплицитной, следует сказать несколько слов об отношении социального и индивидуального, как это понимается в диалогизме. Исходным постулатом диалогической философии языка является утверждение, что язык имманентно социален по своей сущности. На первый взгляд этот постулат не представляет собой ничего нового, поскольку данная позиция выражена и в многочисленных работах представителей структурной лингвистики, в том числе и в Курсе Соссюра [Saussure 1990], в котором социальность рассматривается как важнейший критерий для определения объекта лингвистики. Как известно, основной тезис Соссюра заключается в том, что язык как система лингвистических форм противостоит актуальной языковой деятельности как социальное индивидуальному. Перефразируя данное положение, структурализм понимает социальность как надындивидуальность [Киклевич 1993, 11], что предполагает независимость явлений социального уровня от явлений с субъективным и индивидуальным онтологическим статусом. В этом отношении положения структурализма резко отличаются от ‘социальной онтологии причастности’ Бахтина [см. Махлин 1997] тем, что согласно диалогизму, имманентная социальность языка не исключает его индивидуальности, как, например, в соссюровской традиции, поскольку в диалогизме социальное не противопоставлено индивидуальному диаметрально; эти понятия интерпретируются как взаимно друг друга дополняющие [см. Lähteenmäki 1994].
Понимание социального как надындивидуального предполагает, что социальный язык рассматривается как готовый продукт, который индивид пассивно и механически регистрирует. Следовательно, процесс освоения языка сводится к сплошной дубликации предданного кода, в результате которой все индивиды, в принципе, должны были бы иметь идентичные языки. В соответствии с положением диалогизма развитие или освоение языка однако не является процессом индивидуальным и изолированным, а его необходимой предпосылкой является «постоянное соприкосновение с другими говорящими личностями» [Гаспаров 1996, 15]. Цитируя Бахтина, можно сказать, что «индивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями».
Индивидуальный язык или ‘речевой опыт’ социален, так как он развивается и формируется не в вакууме, а в определенной языковой среде, в определенном дискурсивном мире, состоящем из чужих слов. Имманентная социальность развития языка проявляется в том, что индивид – не «мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру» [Бахтин 1975, 92], он сталкивается с уже дискурсивно cконструированной интерпретацией реальности, с ‘уже оговоренным миром’. С точки зрения онтогенеза индивидуального пользователя языка, из данного положения вытекает, что единственным доказательством значения какого-то языкового выражения являются ответные реакции других на данное выражение, с которыми индивид сталкивался в разных социальных ситуациях. Таким образом, наше знание значения определенного языкового выражения не произвольно, а основано на предшествующих употреблениях данного выражения, что и гарантирует имманентную социальность всех интерпретаций. В этом отношении обосновано считать, что бахтинская теория языка представляет собой разновидность теорий типа ‘значение есть употребление’ [Витгенштейн 1994; см. также Медведев 1991, 122], согласно которым знание значения определенной языковой единицы отождествлено со знанием ее правильного употребления.
Важно отметить, что диалогизм, подчеркивающий социальный характер языка, отнюдь не предполагает какую бы то ни было форму ‘вульгарного социологизма’, согласно которому поведение индивида объясняется исключительно социальными факторами, а особенности его поведения можно свести к общим социологическим правилам. Освоение языка также нельзя отождествлять с пассивным и механическим запоминанием готового языкового материала. Освоение языка является активным творческим процессом, который характеризуется ситуативностью и перспективой индивида. Вследствие уникальности своих позиций – и в пространственно-временном и в биографическом смысле слова – индивиды отличаются друг от друга по качеству и количеству языкового опыта. Следовательно, несмотря на социальную природу языка, языки конкретных индивидов являются, по определению, частично идиосинкретическими и уникальными. Таким образом, согласно диалогическому пониманию, язык индивида двулик по своей сущности, он одновременно социален и индивидуален. С одной стороны, социальность индивидуального языка гарантируется тем, что процесс освоения языка происходит не в вакууме, путем запоминания названия для объектов реальности, – а в диалоге, с социально-конструированной интерпретацией реальности и с чужими словами. С другой стороны, процесс освоения с необходимостью характеризуется перспективной обусловленностью, так как индивид участвует в диалоге всегда со своей уникальной точки зрения.
Несмотря на то, что диалогическая философия языка не является теорией перевода – по крайней мере в прямом смысле слова – мы считаем, что диалогический подход и особенно заключающееся в нем понимание текста как смыслового потенциала может помочь переводчику найти выход из тупика. Согласно диалогическому подходу, для бытия в целом характерна незавершенность, и поэтому смысл текста также является не устойчивым и инвариантным, а динамичным и творческим по своему характеру. Вследствие этого, смысл не может находиться в знаковом материале текста, а предполагает активную и творческую роль читателя. Но одновременно с этим, смысл нельзя считать лишь результатом творчества интерпретатора [Morson & Emerson 1990, 285]. Являясь деятельностью, происходящей в пространстве и времени, интерпретация переводчиком исходного текста, по определению, уникальна. Важно подчеркнуть, что уникальность интерпретации все-таки не предполагает ее полной произвольности. Наоборот, каждая интерпретация представляет собой одну конкретную актуализацию смыслового потенциала данного текста, т.е. актуализацию, опирающуюся на историчность данного текста как образца определенного жанра или типа текста. Таким образом, несмотря на свою неопровержимую уникальность, интерпретация является исконно социальной по своему характеру.
Литература
-
Бахтин М.М.. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Художественная литература, 1975
-
Бахтин М.М.. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.
-
Бахтин М.М.. К философии поступка. Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. Москва: Наука, 1986. С. 80-160.
-
Витгенштейн Л.. Философские работы 1. Москва: Гнозис, 1994.
-
Гаспаров, Б.М.. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. Москва: Новое литературное обозрение, 1996.
-
Кашкин В.Б.. Мифологема контекстуального детерминизма // Витлин Ж.Л. (ред.) Роль и место грамматики в обучении иностранным языкам. Санкт-Петербург: ИОВ РАО, 1998.
-
Киклевич А.К.. Язык-личность-диалог. Диалог. Карнавал. Хронотоп 1, 1993. С. 9-19.
-
Лосев А.Ф.. Миф, число, сущность. Москва: Мысль, 1994.
-
Ляхтеэнмяки М.. Диалогизм и проблема значения: предварительные наблюдения. Studia Slavica Finlandensia 12, 1995. С.77-84.
-
Махлин В.Л.. Философская программа М.М. Бахтина и смена парадигмы в гуманитарном познании. Автореф. дисс. ... доктора филос. наук. Москва, 1997.
-
Медведев В.И.. Проблема контекста у М.М. Бахтина и в западной философии языка. Бахтин и философская культура ХХ века 1. Санкт-Петербург: Образование, 1991. С. 118-127.
-
Современная философия науки / А.А.Печенкин (сост.). Хрестоматия. Москва: Логос, 1996.
-
Chesterman A.. Translating between Aristotle and Postmodernism // Translation, Acquisition, Use / A.Mauranen & T. Puurtinen (eds.). AFinLA Yearbook 1997. Jyväskylä: AfinLA, 51-60.
-
Dufva H. & M. Lähteenmäki. What People Know about Language: A Dialogical View. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 1996, 7 (2), Pp.121-136.
-
Gombert J. E.. Metalinguistic Development. New York: Harwester Wheatsheaf, 1992.
-
Grotjahn R. The Research Programme Subjective Theories: A New Approach in Second Language Research. Studies in Second Language Acquisition, 1991, 13, Pp. 187-214.
-
Harris R.. The Language Makers. London: Gerald Duckworth, 1980.
-
Consciousness, Cognitive Schemata, and Relativism / M.Kamppinen (ed.)Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993.
-
Linell P. The Impact of Literacy on the … Продолжение »