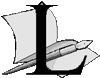В.Б.Кашкин (Воронеж)
Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания (часть 1)
В статье на материале протонаучных взглядов наивных пользователей и истории лингвистических учений рассматривается формирование основных понятий, связанных с межъязыковыми контрастами (монолингвистический и полилингвистический подход).
Введение. Одна из сторон ‘мировой загадки’ языка – единство многообразия или разнообразие единства, т.е. различия и сходства языков при единообразии человеческого рода – является человеку уже с первых шагов его как коммуниканта. Но человек, ‘человекоединица’, сам является частью целого, как и его отдельный язык является частью общего языка. Бельгийский исследователь Коэн Деприк вопрошает: каким же образом часть может понять общность, к которой она сама принадлежит [DePryck 1993, 3].
Язык является частью, если не основой самосознания индивида. Самоосознание само по себе еще недостаточно для понимания отношений расчлененности и единства, необходимо сопоставление или столкновение с себе подобным. Первоначальное осознание отличий языков происходит в контактах индивидуальных носителей, даже носителей одного и того же языка, хотя в данном случае отождествление с себе подобными все же превалирует над некоторыми отличиями. В дальнейшем осознание различий ярко проявляется в контактах субъекта (и совокупного субъекта) с иными социальными языками. Рассмотрим, как в истории становления лингвистических взглядов формировались основные понятия, связанные с межъязыковыми контрастами.
1. Два эйдетических подхода к сходствам и различиям языков. Монолингвизм и полилингвизм. Донаучные обобщения, производимые “наивными” пользователями языка, влияют в определенной мере и на становление в дальнейшем собственно научных лингвистических концепций. Как пишет А.Ф.Лосев, «необходимо некоторое знание, предшествующее всякой теории и науке» [Лосев 1993 (1927), 767-769]. Сходная мысль высказывается и А.А.Потебней: «всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни» [Потебня 1993 (1913), 40]. Б.Кроче подчеркивает двойственность теоретической деятельности, наличие в ней интуитивной (эстетической) и логической ступени [Кроче 1920, 1-4, 62]. Для Э.Гуссерля жизненный мир (Lebenswelt) и жизнь в нем (Weltleben) также исторически предшествуют любой теории [Husserl 1970, XL-XLI]. В таком феноменологическом, прототеоретическом, эйдетическом знании уже содержатся зародыши будущих научных концепций и коллизий.
Эйдетическое знание существует не только на заре цивилизаций, например, в древних мифах1, эйдетическое осознание действительности характерно для любого индивида и любого совокупного индивида в любой момент развития. Разумеется, эйдетический момент присутствует и в эволюции лингвистических взглядов, ведь каждый лингвист одновременно является и пользователем языка. Этот ‘парадокс границы’ (границы между субъектом и объектом познания в гуманитарной сфере) вряд ли преодолим, да и вряд ли имеет смысл ставить вопрос о его преодолении. Правильнее, вероятно, стремиться к осознанию исходной эйдетической точки в континууме знаний, при этом элементы как ‘наивных’, так и ‘научных’ взглядов смогут получить более справедливую оценку. Практическое языкознание, возникающее раньше теоретического2, несет в себе зачатки будущих теорий в виде подходов и методов.
Многие исследователи указывают на то, что первоначальный, эйдетический взгляд воспринимает язык, как целое. Более того, как отмечает Кассирер, неразрывное единство представляет собой и окружающий человека язык, и мифическая картина мира, и весь мир как сплав слова и вещи [Cassirer 1923, 55-57]. Первое разделение языка – на язык земной и язык божественный [Горфункель 1980, 305], на одном из которых говорят о явлениях, а на другом говорят о сущностях, – Ю.С.Степанов называет одной из философских констант, присущих всем исследовательским (а может быть и эйдетическим) парадигмам во все времена [Степанов 1985, 7-8]. В измененной форме эта же идея прослеживается и в противопоставлении общего, универсального, божественного, с одной стороны, и конкретноязыкового, с другой. Христианский Бог создает человека ‘по образу и подобию своему’, наделяя его речью, единым для всего человечества (до строительства Вавилонской башни) языком [Бытие 11:9]. Идея божественной универсальности языка, отождествление высшей духовной субстанции со словом наблюдаются в древнеегипетской, древнегреческой, древнеиндийской и других мифологиях [История 1980, 9-10, 87-89, 117-118; Налимов 1993, 65-66].
Естественный путь ауторефлексии наивного пользователя начинается с его микромира, его собственного индивидуального и этнического языка, т.е. с монолингвистической точки, с монолингвистического взгляда. Попробуем грубо сформулировать этот взгляд: тот язык, которым я владею, является единственным (единственно правильным) способом выражения, любые отклонения мне либо неизвестны, либо неправильны3. Лингвистический опыт индивида ограничен в большинстве случаев двумя-тремя этническими языками, не безграничны и возможности лингвиста-исследователя. Как и многие особенности донаучных воззрений на язык, так и некоторые ‘заблуждения’ или ‘недостаточность’ теорий объясняются в той или иной мере монолингвистическим подходом. Нельзя не признать и положительной стороны монолингвистического взгляда в смысле положительного консерватизма, направленного на сохранение нормы, этнолингвистического пространства. Однако монолингвистический взгляд недостаточен без своей противоположности, полилингвистического взгляда, с которым он находится в отношении дополнительности, как и сами языки – отдельные картины мира. Как писал А.А.Потебня,
«мысль о сравнении всех языков есть для языкознания такое же великое открытие, как идея человечества – для истории. И то и другое основано на несомненной... истине, что начала, развиваемые жизнью отдельных языков и народов, различны и незаменимы одно другим, но указывают на другие и требуют со стороны их дополнения... если бы языки были повторением одного и того же в другой форме, сравнение их не имело бы смысла» [Потебня 1993(1913), 40].
Оба подхода, монолингвизм и полилингвизм, имеют место как в ‘бытовой лингвистике’, т.е. в личном опыте ‘наивного пользователя’ языка, так и в истории развития ‘официальной’ научно-лингвистической мысли.
2. Античные и средневековые взгляды на сходства и различия языков. В античную эпоху, по словам И.М.Тронского, различия между языками не связывались с семантической сферой, а выносились наружу, в план выражения, в ‘звуковой состав слов’ [Тронский 1936, 22-24]. План содержания, ‘совокупность значений слова’ признавался универсальным для всех языков, отражающим сущностные связи явлений объективного мира [История 1980, 165-167]. Эта идея не умирает очень долгое время. Так, Кондильяк считает систему всех языков в основе одинаковой, разница же связана с употреблением разных знаков: французское выражение le livre de Pierre в этом отношении равно латинскому liber Petri [Condillac 1798, 36].
Для античной философии, по оценке И.А.Перельмутера, характерны онтологические выводы (например, у Аристотеля) на материале одного, греческого языка [История 1980, 167-168]. Этот монолингвизм выводит язык (в данном случае именно греческий, а также и греческое миропонимание, в противовес ‘варварскому’), а точнее, λόγος, на роль всеобщего знаменателя и всеобщего закона, Lenker des All [Cassirer 1923, 57-58]. До позднейшей античности сохраняется понятие единства, почти идентичности мысли и языка.
Для средневековой Европы характерен более широкий лингвистический кругозор в сочетании с монолингвистической ориентацией на латынь, как на эталон универсального языка. Следует сказать, что отголоски латинского монолингвизма, в более мягком виде, в виде лингвистического европоцентризма, сохраняются и до нашего времени. Традиционная система преподавания языков (в особенности, грамматики), сама лингвистическая терминология и приемы школьного лингвистического анализа вплоть до нашего времени почти полностью калькируют латынь.
Характеристические черты средневековых воззрений на язык и в особенности на универсальное в языках и не только в языках в наибольшей степени проявились в учении модистов. Следуя за Аристотелем в том, что истинное знание о чем бы то ни было есть знание общего [Аристотель 1976, 118 (1003а:10)], модисты основным предметом грамматики признавали общие, универсальные свойства языков. Само понятие универсалий восходит к проблематике Платона и Аристотеля, связанной с исследованием сущности, с исследованием единичного и общего. Считается, что термин универсалия вошел в употребление у модистов под влиянием переводов Аристотеля и неоплатоника Порфирия (232-304), сделанных Манлием Северином Боэцием (480-524). Интерпретация же этого понятия была неоднозначной, таковой остается она и до сих пор.
Идея, которая получила в дальнейшем наименование ‘концептуализма’, переводила вопрос о существовании общего в сферу понятий, концептов познающего сознания, а в дальнейшем – в сферу слов, обозначающих эти общие понятия, как, например, в учении Росцелина (ок.1050-1120) и Пьера Абеляра (1079-1142). В понимании Абеляра, универсалии – слова, способные определять многие предметы, они возникают в процессе абстрагирования от единичных вещей, знания о которых человек получает в процессе чувственного опыта, существуют же они только в человеческом уме [Соколов 1979, 163-165]. Таким образом, чисто философский вопрос о соотношении материального и идеального мира приводит к рассуждению о посреднике между этими мирами, платоновской идее о мировой душе как посреднице [Там же, 95-96].
Согласно французскому исследователю и составителю хрестоматии ранних лингвистических концепций Шарлю Тюро, философы XIII века, такие как Абеляр, Петр Гелийский и другие, расценивали грамматику не как l’art de parler et d’écrire correctement4, но как une science purement spéculative5, которая ставила своей целью не прояснение фактов, а объяснение глубинных причин и premiers principes [Thurot 1868, 120]. Этот подход не безразличен и модистам, и современным лингвотипологическим концепциям (от лингвистики ‘как’ – к лингвистике ‘почему’).
Идея же посредника перетекает у модистов в проблему собственно лингвистического плана. Происходит это вместе с перенесением концепта общего, универсального из сферы, как это было бы сейчас сказано, экстралингвистической, в сферу языковую (полностью – в номинализме, или частично – в концептуализме или умеренном реализме). Но если у Боэция (и у Платона) мировая душа – которую, в определенном смысле, можно понять и как универсальный общечеловеческий язык – является посредником между миром материальным и миром идеальным, то для модистов как раз мир идей становится посредником между лингвистической и экстралингвистической сферой.
Особое почтение по отношению к языку тем не менее не приводит модистов к сколько-нибудь подробному и обстоятельному исследованию свойств конкретных языков. «Grammatica una et eadem est in omnibus linguis, licet accidentaliter varietur»6 [Цит. по: Ferguson 1978, 9], как было сказано Роджером Беконом незадолго до ‘эпохи модистов’. К его словам присоединяется и Роберт Килуордби: «Поскольку наука одинакова для всех людей (maneat eadem apud omnes) одинаков и ее субъект. Таким образом, и субъект грамматики должен быть одинаков для всех» [Цит. по: Thurot 1868, 127]. А посему, наука о языке, как подлинная наука, не может заниматься чем-либо помимо общих свойств грамматики, но на материале одного, самого универсального, т.е. латинского, языка – крайности универсализма и монолингвизма здесь сошлись воедино.
В целом же, если конкретные факты латинского языка иногда интерпретируются модистами весьма наивно, то общетеоретические их положения о соотношении логики и реальности, различных языков и общей грамматики с определенными допущениями могут быть приняты и принимаются в современных работах. В частности, выделение аспектов природы вещей, идей и семантики слов, которое, собственно, и дало наименование данному течению мысли: modi essendi, modi intelligendi, modi significandi и modi construendi (ср. ельмслевские ‘форма и субстанция выражения/содержания’). Из вышеприведенных модусов наиболее близки собственно языковой сфере последние два: модус обозначения и модус построения [Реферовская 1985, 281-282; История 1991, 22-21]. В каком-то смысле эти понятия предвосхищают будущие понятия внутренней формы и идиоэтнической специфики языковой картины мира. Это предвосхищение, однако, находится in potentia: в первую очередь модистов интересуют сходные способы обозначения вещей, построения фраз и говорения [Реферовская 1985, 282]. Но ‘сходный’ не значит ‘одинаковый’, различие имплицитно подразумевается, однако акцент делается не на нем, а на универсальном, на универсальной грамматике и логике. Это вполне объясняется тем, что собственно лингвистическая проблематика являлась не самоцелью средневековых исследователей, а следствием поисков ими метода исследования окружающего мира. Модусы обозначения и универсалии воспринимались ими как модель для всей науки.
По учению Аквината, общее (универсалии) существует в трех ипостасях: in rebus = universale directum, post res = universale reflexivum, ante res = principale, т.е. в божественном уме, как у Платона и Аристотеля. Близко к этому пониманию подходит и концепция Ибн-Сины – Авиценны (980-1037), считавшего форму, данную реально in rebus, онтологическим эквивалентом универсалии в человеческих умах [Соколов 1979, 248-249].
В споре о месте и способе существования универсалий так или иначе отражалась проблема членения окружающего мира разумом и языком, проблема единичного и общего, дискретного и континуального. Различные учения выделяли на первый план одну из сторон существования или проявления универсального: in rebus – реализм, post res, in sermo – номинализм, in intellectu – концептуализм. При этом, в большинстве случаев, представители разных течений сходились в одном: мир материальный, мир познания и мир языка параллельны и изоморфны, более того – эти миры взаимно детерминированы. Казалось бы, такой подход должен был привести к признанию естественной детерминированности наименований, к поиску единственно правильных имен и единственно правильного языка. Это справедливо только отчасти. Для философов европейской средневековой традиции латинский язык был действительно и языком-материалом и языком-эталоном, хотя и не было эксплицитного признания его единственно правильным. Идею же φύσει модисты склонны были разделять лишь в отношении содержательной стороны слова, внешняя же оболочка признавалась signum arbitrarium [Перельмутер 1991, 14-15]. Однако именно внешняя оболочка слова, составляющая по концепции модистов основу межъязыковых различий, выводилась модистами за пределы своих интересов.
Иной подход характеризует ряд философов, удаленных, в том числе и географически, от европейской традиции7. Наиболее близкие к Европе, армянские философы средневековья более склонны к теории θέσει и опираются в своих концепциях как раз на различия между языками (Давид Непобедимый, Симеон Джугаеци – XVII в.). По мнению Г.Б.Джаукяна, у них не было “пренебрежительного отношения к языкам окружающих народов, в том числе и к языкам варваров” [История 1981, 15]. И более поздние армянские мыслители с большим интересом, нежели модисты, упоминают различные языки. Тот факт, что и в европейской (но не латинской) Чехии греческий и чешский ставились выше латинского и немецкого [Мечковская–Супрун 1991, 128-129], свидетельствует о том, что дело здесь не столько в географии, сколько в монолингвизме, основанном на родном языке. На периферии латинского языка, в то же время, с большей легкостью возникают именно полилингвистические взгляды. Армянин Григор Магистрос (XI в.), интересуясь различными языками в лингвистических целях, склоняется именно к полилингвистическому их восприятию, отмечая, что все языки имеют свои особенности, разные способы выражения одних и тех же грамматических значений. В этом числе он упоминает и отсутствие специальных грамматических форм для выражения этого значения, которое может адекватно передаваться и иными средствами [История 1981, 28-29]. Позднее Мхитар Себастаци (1676-1749) отмечает, что все созданные богом языки, хотя первоначально все народы были одноязычны, имеют общие и разнящие их черты. Признание равноправности разносистемных языков характерно и для Махмуда Кашгарского (ок.1029-1038) [История 1981, 133-134]. Равенство народов и языков подчеркивает и Константин Философ (Кирилл), отрицая избранность каких-либо языков и признавая необходимость перевода духовной литературы на понятный народный язык [История 1991, 128-129]. Таким образом, расширение практического лингвистического кругозора влияет на эйдетическое восприятие соотношения общего/специфического в языке и языках, а в конечном итоге, и на теоретические – или прототеоретические – взгляды того или иного исследователя или течения лингвистической и философской мысли.
3. Интерес к вернакулярным языкам в эпоху Возрождения. Перевод. Позднее средневековье и Возрождение были связаны в Европе с пробуждением интереса к неклассическим языкам: вернакулярным (нормотетическая деятельность Данте Алигьери, трубадуры и грамматики-поэтики, предназначенные для обучения, переводы Библии и других канонических текстов на понятный народный язык) и экзотическим, попавшим в сферу интересов исследователей после великих географических открытий [Heinz 1979, 24; История 1991, 87, 102; 208-209]. Грамматики в этот период составлялись для практических целей, но и на уровне эйдетического знания можно обнаружить определенные воззрения на язык и на языки. В частности, типичным для эйдетического монолингвизма можно считать представление о превосходстве в том или ином смысле родного языка. Это имело место и в более древние эпохи, но на этот раз в роли эталона фигурируют не священные, а вернакулярные языки: “всекрасный и всевкуснейший армянский язык” для Вардана Аревелци (XIII в.), ирландский для ирландцев, чешский для чехов и т.д. [История 1981, 11-12; 1991, 74; 165].
Первые теории сопоставления языков и перевода были, в сущности, основаны также на эйдетическом знании, как, например, Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum (Antwerpen, 1485). Автор исследовал signa vulgaria, идиоэтнические способы передачи набора грамматических категорий языка-эталона. Языком-эталоном в этом трактате выступала латынь. Здесь также наблюдается типичное соединение эйдетического универсализма с монолингвизмом, монолингвистический подход приравнивается здесь к универсальному. В то же время, пара языков в сопоставлении – это уже шаг по направлению к абсолютному идеалу. В качестве эталона иногда использовался и греческий, как, например, в трактате Осьмь честии слова, приписываемом Иоанну Дамаскину (XIV в.). В этом трактате абстрактные и обобщенные значения грамматических форм открывались путем сопоставления вернакулярного языка с греческим эталоном даже в случаях отсутствия соответствующего средства выражения. В частности, нулевая реализация формальных средств приводится как пример передачи артикля в безартиклевом языке. Наряду с нулем, приводятся и несобственно-грамматические средства, по современной терминологии, входящие в периферию соответствующего функционально-семантического поля. Одни из первых прототеорий перевода (в старой терминологии также называвшегося ‘метафорой’, ‘переносом’) были изложены и в Македонском кириллическом листке, и в Изборнике Святослава (1073). Опираясь на представление о том, что сейчас называется двойственной природой языкового знака, эта эйдетическая теория пыталась обосновать различия языков как в плане выражения, так и в семантике [История 1991, 121-122; 137, 147-150; 196-197].
Вторая типичная черта эйдетических прототеорий: божественный, универсальный, правильный язык противопоставляется языку людей. Казалось бы, это противоречит первой характеристике, т.е. монолингвизму, но средневековые и более поздние философы искали и находили вполне диалектичный выход из этого эйдетически-эпистемологического тупика.
Вплоть до XVIII века отголоски учения модистов во многом определяли черты протолингвистической, а точнее, лингвофилософской парадигмы. Однако отдельные ученые приходили к самостоятельным оригинальным концепциям как в рамках данной парадигмы, так и выходя за ее пределы, ‘предвосхищая’ некоторые современные взгляды. В этом смысле нельзя говорить о полном отсутствии оригинальной теоретической языковедческой мысли в эпоху позднего средневековья и Ренессанса. В то же время, говоря о целесообразности исторических экскурсов в современных лингвистических работах, не следует и преувеличивать значения подобных ‘предвосхищений’. В конце концов, каждый ученый в свое время оставался в рамках своей научной парадигмы, своей дисциплинарной матрицы [Kuhn 1970, 175-185], и сравнения, располагаемые на одной аксиологической шкале с современностью, неуместны. Хотя следует признать, что возвращение к старым работам интересно именно открывающимися в них ‘предвосхищениями’ (которые, быть может, заслуживают менее эмоционально-возбужденного слова: ‘параллели’). Кроме того, история развития научной мысли, саморазвитие науки в ее постоянном приближении к объекту своего исследования также подчинены определенным закономерностям, параллелизму подходов и мыслительных движений.
4. Две стороны единства в понимании Николая Кузанского. Один из вариантов ‘примирения’, диалектического объединения конкретного многообразия (в том числе, и языков) и общего – абстрактного – универсального – божественного можно найти в произведениях Николая Кузанского (1401-1464). В его концепции универсальное понятие абсолютного максимума, равного бесконечности, совпадает с понятием минимума; оба – и максимум, и минимум – понимаются им как трансцендентные пределы с абсолютной значимостью. Абсолютный максимум равен абсолютной единице, единству (unitas), т.е. минимуму [Ник.Кузанский 1979(1440), 51-58]. Во взглядах Ник.Кузанского можно увидеть параллель современным континуальным иерархическим моделям мира и языка, концепциям о соотношении и совпадении противоположностей – континуального и дискретного – в природе, в познании, в языке: развертывание линии из точки, времени из мгновения, мира из сущности, свернутой в Боге, в божественном разуме [Горфункель 1980, 59-67]. В соответствии с идеями Николая Кузанского, именование есть членение бесконечного мира рассудком: «Имена налагаются сообразно нашему различению вещей движением рассудка, который много ниже интеллектуального понимания». Далее, о рассудке говорится следующее: «единству в движении рассудка противоположено множество», что косвенно свидетельствует об осознании автором эйдетичной целостности, гештальтности наименования. Говоря о диалектичности концепции Николая Кузанского, Ю.С.Степанов отмечает, что в его книгах содержатся как неконтрастная, так и оппозитивная, т.е. контрастная теория значения [Степанов 1985, 52-53].
В слове, по учению Ник.Кузанского, воплощается форма – душа вселенной. «Всякое звучащее тело слова – знак мысленного слова; причина всякого преходящего мысленного слова – вечное Слово, Логос» [Ник.Кузанский 1979, 175]. Первообраз понятий нашего ума и символический прообраз вещей для Ник.Кузанского – число. Число – это способ понимания, оно возникает из множественности единства, различие же способствует исчезновению единства. Душа – это самодвижущееся число [Там же, 408-410]. Строя парадигму соотношения божественного мира света (единство) и мира тьмы (инакость)8, Ник.Кузанский располагает реальные вещи между двумя полюсами этого континуума. Континуальная модель используется им и для определения универсального, точнее, градации, иерархии универсалий: общее всем вещам универсальное – не такое универсальное – более узкий вид – самый узкий вид, specialissima. «Единичность все индивидуализирует, вид специализирует, род обобщает, Вселенная универсализирует» [Там же, 230-231]. Далее философ пишет о первичной и универсальнейшей природе во всем во Вселенной, во всех ее дискретных элементах: «единство каждой области, поглощенное континуумом инаковости таким образом, что оно не может существовать в простой абсолютности само по себе из-за недостатка актуальности или единства. Соответственно, соединение элементов неразложимо на простые элементы: разложение до простого начала дойти не может, да и сам простой элемент лишен способности актуального существования». Кузанский проводит при этом сравнение с буквами, слогами, речью [231-232]9. «Все мыслимые различия способов рассмотрения легчайшим образом разрешаются [в единство] и согласовываются, когда ум начинает возноситься к бесконечности» Он возносится к невыразимому единственному слову, отражающемуся во всех словах как ‘бесконечная именительная сила всех имен’, «именуемое и имя совмещаются до полного совпадения в высшем интеллекте» [394-395].
Двусторонность единицы, ее вхождение в континуум и содержание ею как единством в себе внутреннего континуума являются ключевой идеей Ник.Кузанского: единство одного элемента заключается в актуальности других и собственная суть всякого элемента есть состав из элементов. «Точка недоступна для познания» [234-236].
В языке Ник.Кузанский видел единство природного рассудка. И различия языков имеют в основе единство, обоснованное природным наименованием, связанным с универсальной божественной формой, хотя само наложение имен и происходит по усмотрению. Как видим, принципы φύσει и θέσει также приводятся Ник.Кузанским к общему знаменателю, как и многообразие языков.
Близки к воззрениям Ник.Кузанского и взгляды Джованни Пико делла Мирандола: бог постоянно проявляется в мире, как единство во множественности – пишет он в трактате De ente et uno [Горфункель 1980, 94-95]. Подобным же образом высказывается и Джордано Бруно: в его понимании “Единого” (Uno) совпадают единство и множественность, максимум и минимум (монада, атом). Разнообразие видов сводится к одному и тому же корню [Бруно 1949(1585), 283-284]. И для Томмазо Кампанеллы универсалии, общие понятия возникают из разнообразных частностей, как обобщение сходных признаков предметов [Горфункель 1980, 318].
Идея универсального божественного языка, как неартикулированного, немого в противовес артикулированному, дискретизированному языку людей разрабатывается и позже, например, у Джамбаттиста Вико (1668-1744). Исследование общих черт языков, дифференцировавшихся под влиянием ‘различий в климате’, выливается у Вико… Продолжение »