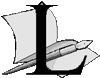Авторитетность и диалогичность
1. Монологичность и диалогичность
Как утверждал Ролан Барт: «Объектом, в котором от начала времен гнездится власть, является сама языковая деятельность, или, точнее, её обязательное выражение – язык» (Барт 1994 : 98). Справедливость этого положения может быть продемонстрирована при анализе различных форм дискурса и различных типов текстов, но, как нам представляется, наиболее очевидным мог бы стать анализ текстов, регулирующих общественное поведение в общественных местах. Но прежде чем перейти непосредственно к анализу этого весьма специфичного вида дискурса, попытаемся в общем виде выяснить особенности взаимоотношений общества и языка, определить те процессы, которые устанавливают и регулируют эти взаимоотношения.
«В жизни отдельных людей и общества язык является фактором более важным, чем какой-либо иной фактор», – писал Ф. де Соссюр (Saussure 1983 : 21). Именно этот, как принято считать, противник социально-исторического и диахронического подхода к изучению языка утверждал: «То, как живет нация, отражается в её языке. В то же время именно язык в значительной степени формирует нацию. Основные исторические события имеют огромное лингвистическое значение… Внутренняя политика страны не менее важна для жизни языка… Язык связан с социальными институтами – церковью, школой и т.д. Эти институты, в свою очередь тесно связаны с развитием языка» (Там же). Безусловно, Соссюр выступает не против диахронического или социально-исторического подходов в лингвистике как таковых, а лишь против их смешения с синхронией. Но именно после его разделения лингвистики на внешнюю и внутреннюю («исключительно в методологических целях», как считал сам великий лингвист), большинство исследователей XX века сосредоточили своё внимание преимущественно на лингвистике внутренней. В то же время было забыто, что язык, как это отмечали ещё Кант, Гумбольдт, Фихте, является ключевым моментом в процессе развития и функционирования общества. Язык выступает также как показатель классовых и прочих групповых разделений в обществе, а также и как способ их преодоления. Таким образом, объектом анализа в лингвистике может быть не только абстрактная лингвистическая структура или особенности её использования индивидуумом, но и особенности институциональных, политических и идеологических отношений между языком и обществом. Объектом могут быть способы использования языка для разделения или объединения социальных групп, убеждения одних в их превосходстве, а других – в подчинённости социальной группе, либо исключённости из неё, в процессе формирования социальной идентичности.
Одним из первых и наиболее значимых исследователей в таком, социально-историческом подходе к языку по праву считается М.М. Бахтин. Разработанные им понятия монологичности и диалогичности в языке, центростремительных и центробежных сил и их борьбы в процессе развития языка, позволили ему и его последователям приблизиться к пониманию реальных процессов во взаимоотношениях общества и языка.
По Бахтину (Бахтин 1965; 1986), монологические и диалогические силы – это социально-исторические силы, находящиеся в постоянном конфликте, они рождают в ходе этого конфликта монологические и диалогические формы дискурса. Доминантная в конкретный момент сила находится в диалоге и борьбе с подчинённой с целью сохранения своего господствующего положения. Диалогическая борьба, таким образом, является основанием всех форм дискурса, а социально-исторические процессы – внутренней силой, которая производит те или иные состояния языка. Конфликт социальных сил производит конкретные языковые формы:
-
одноязычье, которое отражает монологическое мировоззрение говорящих;
-
многоязычье, которое существует в мультикультурных социумах;
-
разноречье – проявление внутренних и внешних лингвистических различий, стратификация языка на социальные диалекты, профессиональные жаргоны, языки, которые служат специфическим социо-политическим целям дня и даже часа.
Если Соссюр предпочитал всему единство и системность, то Бахтин, напротив, – различие и плюрализм. У него всегда диалогизм предпочтительнее монологизма, а разноречье – одноязычья. «Только разноречье полностью освобождает сознание от тирании своего собственного языка и своего собственного мифа о языке» (Бахтин 1965).
Появление одноязычья, многоязычья и разноречья зависит от социально-политических условий и баланса сил в конкретный исторический момент.
Одноязычье – форма языка, являющаяся продуктом диалогической борьбы между оппозиционными тенденциями. Хотя она достигает некоторой стабильности, её статус никогда не бывает таким абсолютным, как она себе его представляет, «не следует забывать, что одноязычье всегда по сути – относительно» (Bakhtin 1981 : 66).
«В любой данный момент исторического существования, язык – разноречен с головы до ног: он представляет сосуществование социально-идеологических противоречий между настоящим и прошлым, между различными социально-идеологическими группами в настоящем, между тенденциями, школами, кругами и т.д.» (Там же : 291).
В другой момент времени одноязычье может уступить место разноречью, могут победить центробежные силы, и попытки достижения единства будут тщетными.
Единство форм, которым обладает язык и культурное единство, которому служит язык, являются результатом действия мощных центростремительных сил, преодолевающих языковые и речевые различия.
По М.М. Бахтину, в любой момент времени унитарный язык противопоставлен реалиям разноречья. «Одноязычье, преодолевая разноречье, налагая на него ограничения, гарантирует определённый максимум взаимопонимания и кристаллизации в реальное, хотя и относительное единство» (Bakhtin 1981)
В отношении к языку подчинённого большинства используется (по терминологии Пьера Бурдье) «символическое насилие» – одноязычье подчиняет себе разноречье, центростремительные силы – силы центробежные. Однако, как и писал Бахтин, монологизм «диалогизируется», ему противостоят, ему не подчиняются.
Монологическая форма (приказ) доминантна, если она подавляет возможности противостоять ей, но, будучи не абсолютной, она всегда опасается возможности диалогического ответа. Конфликт, в котором доминантная форма побеждает, не является предрешенным, он по природе – диалогичен и поэтому всегда может быть возобновлен. То же самое происходит и с разноречьем.
Разноречье есть одна из основополагающих характеристик языка. Монологическая форма языка, например, приказ командира солдатам, представляется в высшей степени авторитетной, абсолютной и не терпящей возражений. Но, по мнению Бахтина, такое представление не соответствует реальному положению вещей. Ибо, согласно его анализу, то, что происходит на самом деле, представляет собой иную картину – монологическая форма находится в конфликте с диалогическими формами, и в соответствии с балансом сил в борьбе, может подавить их. Но ведь всегда существует возможность того, что солдаты могут поинтересоваться, почему такой приказ был отдан, могут отказаться его исполнить, усомниться в авторитете командира, и т.д. Таким образом, монологическая форма доминирует, только если она подавляет возможности противостоять ей. Поскольку её авторитет всё же относителен, она всегда с опаской думает о возможности диалогического ответа. Этот конфликт, в котором одна доминантная форма побеждает, не является заранее предрешённым; он по своей природе диалогичен, и поэтому всегда возможны перемены в соотношении сил.
Конфликт противоборствующих сил в языке характеризуется Бахтиным как вечная дилогическая борьба между центростремительными силами – чья цель заключается в централизации и единстве – и центробежными силами, чья цель заключается в децентрализации и разрушении единства. В этой борьбе отношения между этими силами будут отличаться своими формами и последствиями в различные исторические периоды. В определённый момент, и в определённых исторических условиях центростремительные силы организуют централизованную, унифицированную, авторитарную форму языка, и таким образом одноязычье и монологизм торжествуют (вспомним недавнее советское прошлое, особенно первый его период и то, почти безоговорочное, абсолютное подчинение большинства населения всем указаниям, распоряжениям, приказам представителей власти всех уровней, молчаливое согласие со всем, что говорилось или писалось от имени власти). В другой момент побеждают центробежные силы, и попытки унификации оказываются бесплодными (постперестроечная Россия и современное отношение её граждан к распоряжениям и указаниям власти).
В противовес утверждениям Бахтина об абсолютном этическом превосходстве диалогизма над монологизмом, разноречья над одноязычьем, следует заметить, что определённый уровень монологизма и унификации как в языке, так и в обществе просто необходим, да его и не может не быть в силу самой природы языка. Вспомним, что ещё Гумбольдт настаивал на том, что язык обладает антиномической природой, он объективен и субъективен одновременно (Гумбольдт 1988 : 150-156). Антиномическое понимание природы языка у Гумбольдта было поддержано и развито А.А. Потебней в работе «Мысль и язык» (Потебня 1999). Оно стало затем и интегральной частью философии имени П.А. Флоренского, писавшего, что язык есть живое равновесие «вещи» и «жизни». «Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга, и устранением одной из противодействующих сил опрокидывается и другая. Язык... возможен лишь их борьбою, осуществляясь как подвижное равновесие начал движения и неподвижности» (Флоренский 1998 : 194).
В терминах М.М. Бахтина, формальное единство, которым обладает язык, и культурное единство, целям которого он служит, являются результатом действия массивных центростремительных сил, преодолевающих разноречье.
В общественной жизни определённые формы единства и организации (основные черты центростремительности) необходимы. Трудно себе представить, как могла бы протекать общественная жизнь без них, не говоря о том, что и сами изменения были бы невозможны. Но если это так, то отсюда следует, что необходимо ограничение абсолютного разноречья определёнными объединительными тенденциями.
Заключить эти мысли о взаимоотношениях языка и общества можно было бы словами А. Грамши: «Каждый раз, когда вопрос языка выходит на первый план, это означает, что совокупность других проблем также выходит на первый план: формирование и расширение правящего класса, необходимость установления более тесных и безопасных отношений между правящими группами и широкими массами населения, другими словами – реорганизация культурной гегемонии» (Gramsci 1985 : 183-184).
2. Способы осуществления категории авторитетности в текстах общественных указателей
Борьба между монологизмом и диалогизмом, между одноязычьем, многоязычьем и разноречьем не является лишь конфликтом лингвистических тенденций, но скорее борьбой за формы реализации и самореализации различных общественных классов и групп, борьба эта тесно связана с вопросом распределения и перераспределения власти.
В целях достижения социального монологизма, обеспечения высокого уровня унификации общественного поведения, властные структуры общества активно используют тот широкий набор неписаных правил и представлений, имеющихся у рядовых представителей данного социума, которые можно назвать социальными конвенциями или социальной мифологией.
Ещё Платон в целом ряде своих диалогов («Протагор», «Государство», «Тимей», «Критий», «Законы») разработал теорию социального аспекта мифа. По Платону, две основные функции мифа:
1) служить суррогатной заменой разумного основания для некоторого суждения или поступка, – в тех случаях, когда истинное основание мнения или поступка недоступно в силу своей сложности;
2) способствовать тому, чтобы живущие совместно люди всю свою жизнь придерживались как можно более одинаковых взглядов относительно некоторых важных предметов (см. Блинов 1999).
Очевидно, эти две функции мифа полностью соответствуют интересам представителей власти в их стремлении контролировать поведение членов социума и подчинять его своим целям. Именно социальная мифология придает такой вес текстам разнообразных вывесок, табличек и объявлений, с которыми мы сталкиваемся каждый день на улице и во всевозможных учреждениях и так называемых «общественных местах». В англоязычной социолингвистике они называются City Directives (уличные указатели) или Public Directives (общественные указатели). Именно социальная мифология, с указанными Платоном (но не осознаваемыми нами в повседневной жизни) функциями мифа, является основной причиной того, что подавляющее большинство членов общества беспрекословно исполняет любое указание или распоряжение анонимных табличек, не задумываясь о необходимости или даже разумности этих указаний.
Пьер Бурдье, исследуя проблемы взаимоотношения языка и власти, писал: «Иллокутивную силу высказываний нельзя вывести из самих слов. В дополнение к информации, выраженной эксплицитно, в коммуникативном акте непременно сообщается информация о манере общения, то есть об экспрессивном стиле, который и выражает социальную значимость и символическую эффективность сообщения.
Значимость, «вес» коммуникантов определяется их символическим капиталом, признанием, институциализированным или нет, которое они приобретают в социальной группе. <…>
Магическая эффективность институциализированных актов неотделима от существования института, определяющего условия (относящиеся к исполнителям действия, времени и месту и т.д.), которые должны быть выполнены, чтобы магия слов осуществилась.
Стиль – это элемент механизма <…>, с помощью которого язык стремится производить впечатление собственной важности. <…> Символическая эффективность дискурса власти отчасти зависит от лингвистической компетентности говорящего.
Символическая власть – это та невидимая власть, которая может иметь силу, только с согласия тех людей, которые не хотят знать того, что они являются её объектами, или, что они сами её реализуют» (Bourdieu 1991 : 67-164).
По Соссюру «язык всегда принадлежит всем его пользователям. Это средство в равной степени доступное всем членам языкового сообщества» (Соссюр 1983 : 73-74).
Язык действительно принадлежит всем его пользователям, но не все пользователи в равной мере могут пользоваться им, поскольку «языковой капитал» и «языковые практики» (терминология Бурдье) распределяются согласно степени, в которой его пользователи обладают властью.
Социальная мифология сообщает нам, что все общественные указатели представляют некую высокую властную инстанцию, чьи распоряжения должны быть безусловно исполнены, а их неисполнение повлечёт за собой определённые санкции со стороны той же властной инстанции.
Однако не будем забывать об относительности монологизма в обществе, о том что монологизм часто диалогизируется, его абсолютная власть оспаривается. Очевидно, что и сила социальной мифологии в обществе не абсолютна. Власть (на любом из её уровней) не может этого не понимать и не реагировать на это соответствующим образом. Реальное применение санкций при каждом нарушении указаний было бы затруднительным как с чисто технической стороны, так и по этическим, или псевдоэтическим, соображениям (мы же живем в «демократическом», «гуманном» обществе). Часто авторы общественных указателей даже и не имеют соответствующих полномочий для применения каких-либо санкций к нарушителям. Поэтому для увеличения авторитетности общественных указателей приходится прибегать к другим мерам.
Британский исследователь Дж. Б. Томпсон замечает: «Власть редко осуществляет себя как грубая физическая сила, чаще она облекается в символическую форму, и, таким образом, наделяется некоторой законностью, которой, в противном случае, она не имела бы» (Thompson 1991 : 23).
Можно сказать, что для преодоления разноречья и диалогизма на помощь социальной мифологии приходит мифологизация текста.
Ролан Барт, исследуя процесс такой мифологизации текста, пишет: «Миф является вторичной семиотической системой. Знак <…> первой системы становится всего лишь означающим во второй системе. Материальные носители мифического сообщения, какими бы различными они ни были, как только они становятся составной частью мифа, сводятся к функции означивания <…> Миф – это сообщение, определяемое в большей мере своей интенцией, чем своим буквальным смыслом, и, тем не менее, буквальный смысл, так сказать обездвиживает, стерилизует, представляет как вневременную, заслоняет эту интенцию» (Барт 1994 : 78-89).
У нас в данном случае речь идёт о сознательном или бессознательном завуалировании, а подчас и подмене мотивации высказываний. В отношении общественных указателей, как и вообще всех категорично выраженных директивных текстов и высказываний, эта мифологизация наиболее ощутима.
Даже в современной лингвистике проблема мифологизированности текстов не всегда осознается. Так, в Теории речевых актов мы находим такие термины, как «прескриптор» (имеется в виду говорящий), «предписываемое действие», тогда как совершенно очевидно, что решение об исполнении или неисполнении предлагаемого действия – исключительная прерогатива адресата, отсюда относительность всех команд, предписаний, приказов и т.д. (Мы уже приводили на этот счёт мнение М.М. Бахтина, которое вряд ли можно оспорить, соглашаясь с наличием у человека свободной воли).
Однако сила мифа в современном обществе ничуть не ослабла по сравнению с «мифологической» античностью. Именно поэтому, категорически и безапелляционно выраженный директив часто воспринимается нами как нечто неотвратимое, то, чему мы должны следовать вне зависимости от нашего личного отношения к нему и его основаниям, его источнику. Те, кто издают эти команды, также считают, что они (команды) не подлежат не только обсуждению, но даже осмыслению. Поэтому вне зависимости от наличия или отсутствия у авторов общественных указателей реальных власти и авторитета, категорично составленный текст вызывает у большинства адресатов чувство, что эта власть имеется, и что они могут испытать на себе все негативные последствия неуважения к требованиям этой реальной или воображаемой власти. Однако, как мы уже говорили, сила социальной мифологии относительна. Лица, издающие директивы, в особенности это относится к общественным указателям, не могут не осознавать этой проблемы. Чтобы увеличить авторитетность своих директивных текстов, они сознательно придают им форму, которая при минимальном раскрытии мотивации, часто являющейся недостаточной, обеспечивала бы их максимальную эффективность, уменьшала бы риск их диалогизации, осознанного, критического отношения адресатов к этим текстам и их требованиям.
К тексту общественных указателей все это относится самым непосредственным образом. Высокая степень авторитетности источника общественных указателей по отношению к его потенциальным адресатам является одним из его основополагающих признаков. Несомненно, что отсутствие этого признака привело бы к катастрофическому снижению успешности применения общественных указателей.
Авторитетность общественных указателей во многом обеспечивается социальной мифологией. Человек, увидев категорически выраженный запрет «НЕ КУРИТЬ» или извещение о том, что данный вход «ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА», неизбежно придет к выводу о том, что за этими крайне лаконичными фразами, напечатанными на официально выглядящих табличках, кроется какая-то высокая властная инстанция, обладающая возможностью и полномочиями наказать нарушителя тем или иным образом.
Вспомним, что миф по Р. Барту является вторичной семиологической системой (Барт 1994 : 117). То есть, видя надпись: «ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА», мы расшифровываем её следующим образом: «Если в это помещение войдет НЕ член персонала, он будет удален, а возможно и наказан, причём с санкции высшей законной инстанции». Подавляющее большинство людей даже не задумается, обладает ли автор (или, скорее, заказчик) этой надписи реальными полномочиями и возможностями осуществления предполагаемой угрозы.
Почему же в общественных указателях не употребляются тексты в развернутом виде, тексты «первичные»? Во-первых, в этом нет необходимости: все члены общества знакомы с его мифологией или неписаными законами. А во-вторых, и это очень важно, часто «первичный текст» был бы слишком категоричен и мог бы даже вызвать сомнение у ряда граждан относительно своей легитимности. «... миф основан на внушении, он должен производить непосредственный эффект, не важно, что потом миф будет разрушен, ибо предполагается, что его воздействие окажется сильнее рациональных объяснений, которые могут опровергнуть его позже» (Барт 1994 : 117).
Форма текста оказывается зачастую важнее его содержания. Именно форма несет в себе импликацию высокой степени авторитетности автора общественных указателей (на самом ли деле так высока эта степень авторитетности или нет, для адресата остается неизвестным, но он верит форме, он ею «зачарован»).
Наиболее мифологизированными являются тексты инструктивных общественных указателей, целью которых являются не регулирование каких-либо отдельных действий индивида, а предписывание ему целой программы поведения, всего, что он «должен» и «не должен» делать в данном общественном месте.
Изучая тексты подобных инструкций, можно выделить целую группу лексико-синтаксических трансформаций текста, направленных на усиление эффективности этого класса общественных указателей – мы пользуемся здесь терминологией британского социолингвиста Р. Фаулера (Fowler 1979).
Поскольку по своей интенции общественный указатель, или его «первичный текст» (по терминологии Р. Барта) есть директив, последний должен сводиться к тому, что конкретный источник общественного указателя указывает / предписывает конкретному адресату совершить или напротив не совершать какое-либо действие («Я ПРЕДПИСЫВАЮ ТЕБЕ / ВАМ: СДЕЛАЙ(ТЕ) Х»).
Однако «вторичный», мифологизированный текст будет, как правило, иметь другую структуру вследствие ряда трансформаций.
Основную трансформацию можно назвать «деперсонификацией». Трансформация подразумеваемого второго лица (ТЫ, ВЫ) в третье (СТУДЕНТЫ, ПАССАЖИРЫ и т.п.) при наименовании адресата – исполнителя действия с одновременной заменой императивной конструкции на декларативную (например: ПАССАЖИР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОПЛАЧЕННЫЙ ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ) смягчает категоричность высказывания – прямое указание сменяется информацией о том, что необходимо для некоего «пассажира» (а как бы вовсе и не для конкретного адресата общественного указателя).
Ещё один пример деперсонификации: У НАС САМООБСЛУЖИВАНИЕ. Казалось бы, перед нами информатив, никто ни к кому не обращается, ничего не запрещает. Однако такого рода общественные указатели весьма эффективны. Они воспринимаются как декларации о единственно возможном в данном месте образе действий, при этом подразумевается, что вести себя иначе – невозможно, недопустимо.
Интересно пронаблюдать трансформацию «первичного текста» в следующем общественном указателе: ВОДИТЕЛЬ ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ ТОЛЬКО НА ОСТАНОВКАХ (очевидно, имеется в виду, что пассажирам запрещается обращаться к водителю в другое время, но «вторичный текст» как будто бы ничего не запрещает, а лишь информирует об особенностях поведения водителя, тем не менее, желаемый эффект достигнут – водителя беспокоить не будут).
К «деперсонификации» примыкает «пассивизация» – замена активных структур пассивными (например: ВХОД В ОТДЕЛЕНИЕ БЕЗ СМЕННОЙ ОБУВИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ). В параллельной активной конструкции пришлось бы указать источник запрета – кто именно запрещает данное действие. Да и форма глагола (ЗАПРЕЩАЕТСЯ) воспринимается не как процесс, а как состояние, данность, то, с чем необходимо мириться.
Порой излишняя категоричность таких текстов смягчается с помощью чисто лексических средств. Так, в следующем примере: ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ С 11 ДО 13 Ч. И С 17 ДО 19 Ч. , мы видим, что «вторичный» текст разрешает нам определённые действия, тогда как, безусловно, цель публикации этого общественного указателя – запретить посещение больных в другие часы.
Ещё один типичный пример пассивизации: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.
Отсутствием прямых указаний на исполнителей предписываемых действий люди, ответственные за публикацию текста, маскируют тот факт, что они пытаются контролировать появление тех, кому этот текст адресован. Автора текста общественных указателей тоже определить чаще всего невозможно (в крайнем случае, можно увидеть ссылку на некую безличную «администрацию»).
Этот приём деперсонифицирует отправителя, а с другой стороны, подчёркивает его нежелание рассматривать адресата как индивидуума. Всё это не может не привести к отчуждению отправителя и адресата текста общественных указателей друг от друга, к увеличению дистанции между ними, а значит – и к повышению авторитетности отправителя, который воспринимается не как личность, а скорее как недостаточно определённая, но, несомненно, важная властная инстанция, имеющая все права и возможности сурово наказать нарушителя своих распоряжений.
С помощью трансформации текста можно фактически менять местами распределение прав и обязанностей. Р. Фаулер предлагает назвать такую трансформацию «тематизацией» (Fowler 1979 : 117).
Вот один пример такой конструкции: ПАССАЖИР ОБЯЗАН ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ ТАРИФУ.
В этой пассивной конструкции номинальное обозначение объекта («ПАССАЖИР») находится на позиции темы, то есть, в начале предложения, а эта позиция обычно ассоциируется с местом исполнителя – субъектом. Очевидно, «первичный текст» здесь будет звучать так: «Данная инстанция (водитель или руководитель организации) обязывает вас, пассажиров, оплачивать проезд согласно установленному тарифу». Тем не менее, читатель, отвлекаемый формой текста от его содержания, наверное, предположит, что субъект здесь – пассажиры (то есть, в том числе, и он), а значит и действие производится не над ними, а, напротив, они сами его совершают. Вследствие этого нежелательная коннотация (контроль над действиями адресата) снимается.
Ещё один подобный пример: ПРОЕЗД ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
При формальном анализе этого предложения можно сделать вывод, агент действия здесь – дети. Но на самом деле «первичный» текст должен обязательно включать в себя неких представителей местной власти, которые обязывают родителей сопровождать своих детей при поездке.
Наконец, некоторые общественные указатели представляют собой полностью трансформированный текст, лишённый не только обозначения субъекта и объекта действия, но даже не называющий и само действие, что, однако, нискольк