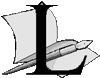Н.Ю.Фанян
Философский аспект метакоммуникативной деятельности (аналитическая философия)
Автор обращается к рассмотрению аспектов метакоммуникации в рамках аналитической философии.
The author reviews the treatment of metacommunicative aspects within analytical philosophy.
1. Введение. В пределах данной статьи нам бы хотелось остановиться на представлении одного из возможных основных аспектов метакоммуникативной деятельности – философском. Более конкретно речь пойдет об одном из направлений современной философии – аналитической философии (АФ), которая имеет достаточно солидные традиции. В настоящее время она может рассматриваться как многоликое и разнородное образование, объединенное под общим именем АФ [Аналитическая философия 1998]. При более близком рассмотрении оказывается, что подобное представление не очень верно, поскольку не соответствует действительности. Общее основание под названием АФ может быть описано как волнообразное явление (или сущность), фиксирующее моменты взлетов и падений и создающее шаткие позиции для данного направления. Оно характеризуется постоянным изменением. Несмотря на всю свою ‘аналитичность’, данная философия в любом случае призвана интерпретировать и интерпретировать не что иное, как необъятную действительность.
Одной из возможностей рассуждения по поводу метакоммуникативной деятельности в рамках АФ является тот факт, что жив в веках вопрос, направленный на определение статуса философии и философа. Таким образом, в общий круг задач сводятся понятия (‘ключевые слова’) философия, язык (‘коммуникация’ – вербальная/невербальная), деятельность.
Итак, АФ представляет собой направление философской мысли, которое находится в стадии становления и развития. Она достаточно популярна, особенно в англо-американской традиции. Естественно, что, когда конкретное направление находится в становлении, то о внутреннем единстве говорить не приходится. При чтении публикаций по АФ за каждой из них вырисовывается конкретное лицо, своеобразное, оригинальное, думающее так и никак не иначе. В широком смысле слова АФ квалифицируется «как определенный стиль мышления» [Грязнов 1998]. Само название говорит за себя. Ей присущи рациональность, строгость и точность: «сам процесс аргументации подчас не менее важен, чем достигаемый с его помощью результат. При этом аргументированной убедительности, логичности выводов отдается явное предпочтение перед их эмоциональным (или каким-либо иным) воздействием» [Грязнов 1998: 5]. Данные качества в АФ рассматриваются как ‘преобладающие’, по сравнению с их статусом в других направлениях западной философской мысли. Однако…
2. Немного истории. АФ до недавнего времени отождествлялась с неопозитивизмом, так как изначально она несла в себе мотивы логико-лингвистического позитивизма. Но поскольку АФ, как и любое другое направление, находится в развитии, то она не нуждается в категоричных и окончательных характеристиках. Невозможность, да и отсутствие необходимости в исчерпывающих выводах позволяют давать более гибкую интерпретацию. Как можно говорить в детерминированных терминах о таком уже достаточно распространенном направлении, когда трудно охарактеризовать даже научные взгляды отдельно взятого ученого, яркого представителя данного направления, Л.Витгенштейна [Витгенштейн 1993]. Путь известного ученого свидетельствует и отображает моменты поиска, «взлеты и падения аналитической философии» [Решер 1998]. Привычные нашему слуху, эпитеты ‘ранний’ и ‘поздний’, относящиеся к Л.Витгенштейну, показывают, что даже аналитизм сам по себе не может являться единственным и всеобъемлющим методом. Противоречия во взглядах Витгенштейна – частный случай противоречий в русле всей АФ. АФ сегодня имеет антипозитивистскую направленность. А неприятие метафизического духа перешло в сторону его пересмотра новыми методами [Дэвидсон 1998].
Считается, что корни АФ восходят к английским эмпиристам (Гоббс, Локк, Беркли, Юм). Однако метафизическая традиция АФ основывается на учениях Аристотеля, Декарта, Канта. Поэтому, как и любая другая философская традиция, АФ несет в себе преемственность и не является исключительным новообразованием.
Современная АФ резюмирует три этапа своего развития в следующих видах: философия логики [Рассел 1998], философия языка и философия сознания, которая изначально присутствовала как дополнение к философии языка. Возможно, подобное деление также является выражением аналитического стиля мышления, отражает желание все точно определить и разложить по полочкам, чтобы яснее выделить проблему. АФ сегодня – это присутствие разноцветного калейдоскопа, включающего как радужные картины ее перспектив, так и пессимистические мотивы относительно ее будущего [Решер 1998; Рорти 1998]. Как и любое другое направление, АФ характеризуется тем, что наряду с частными проблемами в ней решается вопрос о необходимости вообще философствования. В этом мы рассматриваем основную возможность метакоммуникативной деятельности в философском аспекте конкретно в аналитической традиции. Подобный подход расширяет рамки самого аналитизма, показывая, что, если даже она ‘в своей тарелке’, то ей уже, по крайней мере, сегодня в ней тесно. АФ пересматривает классификацию философов по направлениям, по разрабатываемым проблемам, по их полезности или ненадобности, рисуя картину, непривычную для нашего традиционного восприятия. До недавнего времени, раз и навсегда определенно воспринимаемые, Аристотель или Кант, предстают для некоторых философов-антиметафизиков в виде, мягко говоря, не-философов (Аристотель ‘гоним’ не только в аналитической традиции: за рамками АФ критике, например, Р.А.Уилсоном, подвергаются ‘аристотелевские определенности’). Это оценка традиционного наследия – аксиология в диахронии. Аксиология в синхронии сравнивает англо-американскую и французскую традиции, с выявлением двух разноречивых отношений: с одной стороны, вырисовывается крайнее неприятие французской традиции, квалифицируемой как изощренно интеллектуализированное пописывание [Делез 1998; Фуко 1996]; с другой стороны, достаточно доброе отношение к существующему деконструктивизму [Деррида 1999] и текстовой французской традиции (французская школа анализа дискурса [Квадратура смысла 1996]).
3. Общеметодологические проблемы философии. Каждый философ ставил себе следующий вопрос и отвечал на него: «Что такое философия и для чего она?» В зависимости от того, как философ отвечал на этот вопрос, он видел, ставил и решал задачи в пределах привлекательной для себя области. Речь о различиях, существующих в русле одного направления. Так в чем же предназначение философии для отдельных представителей АФ? Так, Ф.Рамсей полагает:
«Философия обязана приносить какую-то пользу, и мы обязаны принять ее всерьез. Она должна прояснить наши мысли и наши действия. Или еще, философия есть исследовательская установка, которую мы должны проверить, чтобы убедиться, что она <философия> бессмысленна, ибо это является ее главным положением. Нам следует всерьез принять то, что философия бессмысленна, а не делать вид, как Витгенштейн, будто это важная бессмыслица!» [Рамсей 1998: 38].
Далее автор уточняет, что философия занимается не специальными проблемами, а только общими. Задачей философии является не определение частных терминов искусства или науки, а решение проблем, возникающих при определении и прояснении отношения терминов физического мира к терминам опыта. Согласно Рамсею, логика сводится к тавтологиям, математика – к равенствам, философия – к определениям; «при всей простоте они суть части жизненно важной работы по прояснению и организации нашего мышления» [Там же: 39]. Известно, что, так или иначе, философу приходится ввязываться в герменевтический круг объяснения, из которого он предлагает выйти, используя метод без самосознания. Иначе пришлось бы «отдать философию на откуп теоретической психологии» [Там же: 40]. Как следует из размышлений философа, анализ без самосознания предполагает думание о фактах, а не о процессе думания. Опыт размышления Рамсея приводит его к следующему выводу о том, что этот метод может быть правильным, но он считает его ложным, ведущим в тупик, поэтому он его далее не рассматривает. Данное размышление суть отражение желания объективистского описания, которое предполагает существование некоего потустороннего наблюдателя, не включаемого (включенного) в общий физический мир. Подобное философствование в итоге постулирует возможность (желание) выхода из пространства постоянного регресса, который позволил бы разорвать порочный герменевтический круг. Рассуждения Рамсея, относящиеся к 1931 году, проблематичны и по нынешний день. Но из данного тупика еще не пробивается свет, может лишь маленький проблеск из случайной щелочки. Возможно, это совет философа, напоминающего нам о том, что необходимость самосознания не должна служить оправданием бессмысленных гипотез, и занятие философией предполагает, что «анализ высказываний о значении или о чем-то другом, должен быть понятен нам самим» [Там же: 42]. Исходя из этого, Рамсей осуждает ‘схоластицизм’ Витгенштейна, заключающий в себе мнение о полной упорядоченности обыденных суждений и невозможности мыслить нелогично. Как комментирует Рамсей, это равносильно утверждению о том, что невозможно нарушить правила бриджа, ибо в противном случае это игра не в бридж, а в не-бридж. Продолжая размышления авторов, можно было бы заметить, что и Рамсей, и Витгенштейн говорят фактически одно и то же.
Ведь ранний Витгенштейн, в поисках логики обыденного языка, решил, что наилучшей структурой его формализации являются элементарные пропозиции. Вопрос о первичных ‘протокольных предложениях’ затрагивался также Рудольфом Карнапом. В частности, он считал, что вопрос об их форме и содержании нужно оставить в стороне, так как в трактовке ‘данного’, которое является условием существования первичных предложений, нет единого мнения: являются ли они высказываниями о простейших чувственных качествах (‘теплый’, ‘радость’), говорят ли они об общих переживаниях, а может быть о вещах. Обобщая метафизические посылки, Карнап утверждает, что «ряд слов только тогда обладает смыслом, когда установлено, как он выводится из протокольных предложений, какого бы качества они ни были» [Карнап 1998: 72]. Таким образом, происходит преодоление метафизики Карнапом. Он обращает взор к логическому анализу, утверждая его как метод. К данному выводу он приходит исходя из того, что если все предложения, которые нечто означают, эмпирического происхождения, то тогда философии остаются не предложения, не теория, не система, а только метод, т.е. логический анализ. Метафизика же, по мнению Карнапа, возникла из потребности выражения чувства жизни, эмоционально-волевого отношения к миру, а «чувство жизни выражается в большинстве случаев бессознательно» [Там же: 86]. Речь идет о желании найти чистую структуру. Но так как в область логики входит теория значения с ее условием истинности, то фактически понятие определения остается трудно доступным. Да и разделение предназначения логики и философии (Рамсей) оказывается, как это видно на сегодняшний день, весьма неудобным и ограниченным пониманием. Поиск чистой структуры ведется и Рамсеем, что выражено в его желании дать корректную дефиницию определению, то есть в таком виде, который бы исключал методы теоретической психологии. Остается неясным, каким образом анализ высказываний о значении должен быть понятен нам самим.
Для более общих теоретических выводов необходим учет предыдущих методов и изысканий. Всегда существует опасность того, что в процессе размышления мы невольно приходим на те же круги одной и той же спирали, которая похожа на нашу действительность.
4. Логико-философская этика/эстетика. Одна из попыток разорвать герменевтический круг – это выйти в область этики, что и сделал Витгенштейн вследствие своих логических опытов. О чем невозможно говорить, об этом он советовал молчать (ср. с имеющимся опытом в различных культурах: «Слово – серебро, молчание – золото» (рус.); «Cum tacent, clamant» (лат.); «Знающий не говорит, говорящий не знает» [Лао Цзы 1996]); нет необходимости в историческом исследовании понятия молчания для его обоснования как изначальной этической необходимости. Один из представителей Венского кружка в докладе об этике внес замечательное предложение: «Удивимся факту наличия мира. Любая попытка это выразить ведет к бессмыслице» [Вайсман 1998: 58]. Попытку же объяснения Вайсман квалифицирует как намерение человека атаковать границы языка.
Квалифицированное или компетентное удивление – поле деятельности эстетики (искусства). Это – слово поэта, которое, как известно, не нуждается в объяснении, разве что в дидактических целях; это – краски, свет художника; звуки композитора; движения танцора – мир искусства, который является человеческим выражением мира природы, нас окружающей. А при рациональном и исключительно прагматическом к ней подходе, она, как известно, беспощадна к человеку. Противопоставляя метафизику и искусство, Карнап писал:
«Возможно, музыка – самое чистое средство для выражения чувства жизни, так как она более всего освобождена от всего предметного. Гармоничное чувство жизни, которое метафизик хочет выразить в монистической системе, гораздо яснее выражается в музыке Моцарта. И если метафизик высказывает дуалистически-героическое чувство жизни в дуалистической системе, не делает ли он это только потому, что у него отсутствует способность Бетховена выразить это чувство жизни адекватными средствами? Метафизики – музыканты без музыкальных способностей. Поэтому они имеют сильную склонность к работе в области теоретического выражения, к связыванию понятий и мыслей. Вместо того чтобы, с одной стороны, осуществлять эту склонность в области науки, а с другой, удовлетворять потребность выражения в искусстве, метафизик смешивает все это и создает произведения, которые ничего не дают для познания и нечто весьма недостаточное для чувства жизни» [Карнап 1998: 88].
Таков жесткий приговор метафизике на фоне искусства, в котором нет места полемике. Карнап называет метафизику «заменителем искусства, причем недостаточным». По его образному выражению, лирик в своих стихах не ставит цели опровержения предложений из стихотворений другого лирика, так как находится в области искусства, а не теории. Само наличие полемического в рассуждениях вряд ли может вызвать чувство удивления, а если да, то только в негативном смысле.
Момент удивления является чрезвычайно важным. Недаром считается, что человек, потерявший способность к удивлению, мертв. Бесконечное удивление миру и постоянное его узнавание может обеспечить живое существование. Занимаясь, например, логическим анализом языка, мы мало чему можем удивиться, когда в основном речь идет о правильно-логических конструкциях. Удивляемся мы по-настоящему, лишь входя в сферу так называемых иллогизмов, нонсенсов и абсурдов. Свобода поиска и творчества, как известно, могут быть обеспечены лишь в случае недогматического подхода в любом деле. Изначально недогматическая философия способна предоставить подобное условие. В продолжение к тезису об удивлении и молчании Вайсман считает единственно верным методом философствования – ничего не говорить и предоставлять другому делать утверждения [Вайсман 1988: 67]. Данный метод (сократовский, диалектический) бесценен в целях нахождения альтернативных мнений и в дидактическом смысле – в процессе обучения говорению, рассуждению, а также с точки зрения этического и эстетического мироощущения. Этот метод обеспечивает естественное, спонтанное развитие мысли, которая в непредсказуемых вариациях отражает присущее ей внутреннее противоречие. Возможно ли описать все многообразие противоречий или объяснить их смысл? Нужно ли это делать? Нужны ли нам категориальные классификации и для чего? В метафизическом смысле, – да, это возможно и это нужно. В очередной раз встает вопрос об онтологии.
5. ‘Новая метафизика’. Новая метафизика обосновывается методом истины. Истина рассматривается уже не как нечто само собой разумеющееся. Указывается на необходимость уточнения ее статуса и определения ее роли в метафизике. Ратуя за метод истины в метафизике, Д.Дэвидсон подчеркивает, что, безусловно, этот метод не нов. Этим методом пользовались Платон, Аристотель, Юм, Кант, Фреге, Витгенштейн, Куайн, Стросон – философы разных времен и различных взглядов. Они были различного мнения о свойствах языка и способах его изучения и описания, вследствие чего приходили к различным метафизическим выводам. Дэвидсон по-новому формулирует свой подход к метафизическому методу:
«…тот, кто способен понять речь другого человека, должен принять его представление о мире независимо от того, правильно оно или нет. Причина состоит в том, что мы искажаем понимание слов другого человека, если в процессе понимания считаем, что он явно ошибается» [Дэвидсон 1998: 343].
Далее философ уточняет, что вопрос о необходимом существовании общих убеждений известен и тривиален, и без подобной основы не стоит говорить о возможности споров и дискуссий, и невозможно соглашаться или не соглашаться с кем-то, если нет почвы для взаимопонимания. общность убеждений – базис коммуникации и понимания; ср. в лаконичной форме – у Р.А.Уилсона: спор возможен только лишь в том случае, если мы прекрасно понимаем позицию своего оппонента [Уилсон 1998]; у У.Матураны: невозможно достижение консенсуса путем убеждения [Матурана 1996]. Переходя к понятию истины, Дэвидсон справедливо подчеркивает, что «Согласие не создает истины, однако большая часть того, относительно чего достигнуто согласие, должна быть истинной, чтобы кое-что могло быть ложным» [Дэвидсон 1998: 344]. Однако Дэвидсон в поисках истины все-таки не может до конца ее объяснить: он говорит, что истину мы предполагаем, но
«мы не можем, конечно, считать, что мы знаем, в чем заключена истина. Мы не можем давать интерпретации на основе знания истин не потому, что ничего не знаем, а потому, что мы не всегда знаем, как они выглядят. Для интерпретации нам не нужно всеведение, однако нет ничего абсурдного в мысли о всеведущем интерпретаторе. Он приписывает убеждения другим людям и интерпретирует их высказывания, опираясь на свои собственные убеждения, как делают это и все остальные» [Там же: 344-345].
Мысль о всеобщем интерпретаторе отбрасывается Дэвидсоном. Его всеведущий похож на стороннего наблюдателя, о котором мы говорили ранее. На наш взгляд, так или иначе, все рассуждения сводятся к тому, признаем ли мы возможность существования этакого всеведущего или отрицаем его. А если признаем, то каков он, этот наблюдатель? А если мы пока не в состоянии зафиксировать факт его существования, то каким мы его представляем и каким мы его смоделируем? В этом узле сводятся проблемы метакоммуникативной деятельности.
Вернемся к Дэвидсону. Он не отступает и не свидетельствует о своей беспомощности. Метод Дэвидсона прост и манера философствования привлекает своей прозрачностью и ясностью. Он ставит конкретную цель – построение теории истины для достаточно важной и значительной части естественного языка. Вопрос заключается в том, какая же часть языка будет охвачена теорией и насколько она обоснована. Философ ставит задачу не выявления универсалий, что характерно, в основном, для любого философского направления (поиски закономерностей, которые, безусловно, выводятся из обобщений). Его теория «должна показать, каким образом каждое из потенциально бесконечного множества предложений можно рассматривать как построенное из конечного числа семантически значимых атомов (грубо говоря, слов) с помощью конечного числа применений конечного числа правил построения» [Там же: 345-346]. При этом на основе структуры задается условие истинности каждого предложения относительно обстоятельств его произнесения. Теория, таким образом, объясняет условия истинности произнесения некоторого предложения, опираясь на роль слов в этом предложении. В этой части своих рассуждений Дэвидсон продолжает традиции Фреге, теория которого ограничивалась применением функции к аргументам и трактовкой предложений как имен особого рода – имен истинностных значений. Однако, как развивает свою мысль Дэвидсон, поскольку предложения не функционируют в языке так, как имена, то подход Фреге вызывает сомнения в том, «что онтология, с которой он имеет дело в своей семантике, непосредственно связана с онтологией, неявно предполагаемой естественным языком» [Там же].
Как Фреге, так и Куайн исследовали структуру языка в целях улучшения естественного языка, а не в качестве части теории языка. Согласно Дэвидсону, Куайн пошел, однако, дальше Фреге: «ибо если Фреге полагал, что его система записи улучшает язык, то Куайн считал, что система записи улучшает науку» [Там же: 347]. Дэвидсон, резюмируя подходы Фреге и Куайна, подчеркивает, что для него первопорядковые языки со стандартной логикой так же привлекательны, как и для его предшественников. Но они его интересуют не в смысле улучшения языка, а в смысле его понимания: «…я вижу в формальных языках или канонических системах записи лишь средства исследования структуры естественного языка» [Там же]. По Дэвидсону, исходя из знания теории истины для формального языка, мы бы имели теорию истины для естественного языка, если бы знали, как систематическим образом преобразовать предложения естественного языка в предложения формального. В этом процессе обычные формальные языки представляются вспомогательными средствами в ходе истолкования естественных как усложненных формальных языков.
На поиски истины для естественных языков Дэвидсона вдохновляет определение истины для формализованных языков А.Тарского [Тарский 1998]. Его метод заключается в том, чтобы задать семантические свойства элементов конечного словаря, на основе чего рекурсивно охарактеризовать истину для каждого бесконечного множества предложения. В этом процессе истина определяется в терминах понятия ‘выполнимости’ (ср. accomplissement), связывающего предложения с объектами мира. Особенность определения предиката ‘истинно’ у Тарского в том, что он приемлем в том случае, если для каждого предложения языка L из него следует теорема вида «x истинно в L тогда и только тогда, когда…», где «x» представляет описание данного предложения, а вместо точек стоит перевод предложения в язык теории. Это дает возможность определения истины для каждого предложения без обращения к концептуальным средствам, отсутствующим в данном предложении. Однако Дэвидсон замечает, что перевод, который может быть осуществлен в искусственных языках с предписанной интерпретацией, для естественных языков не имеет точного и ясного смысла. Поэтому, как считает Дэвидсон, «в применении к естественному языку имеет смысл принять частичное понимание истины и использовать теорию истины для освещения вопросов значения, интерпретации и перевода» [Дэвидсон 1998: 348]. Для естественного языка теория истины выполняет функцию раскрытия его структуры. Причем Дэвидсон ратует за универсальную теорию истины. Он полагает, что «подходящая метафизика на центральное место поставит идею человека (говорящего), локализованного в обыденном пространстве и времени» [Там же: 358]. Дэвидсон уточняет, что наши обычные суждения о мире связаны с существованием событий и теория истины не может сказать, какие именно события существуют. Таким образом, метод истины затрагивает многие основания.
Вопрос об истине становится еще более захватывающим, когда он вводится в контекст будущего. Говоря о предназначении науки вообще, Куайн, на первый взгляд, делает уклончивые обобщения, однако они представляются основополагающими вопросами, выдвигаемыми философией. Согласно Куайну, описаниями наблюдений, на которые опирается наука, являются предложения случая. Немаловажными понятиями в его размышлениях являются понятия непрерывности (близкое к каузальным связям), благодаря чему большая часть наших общих терминов обретает индивидов; функции замещения. Что вызывает симпатию в рассуждениях Куайна, так это то, что философ не потерял способности удивляться не только миру, но и всей той науке, одним из представителей которой он является (может быть, в этом смысле его следовало бы характеризовать как стороннего наблюдателя, который одновременно включен в событийный процесс):
«Эпистемология или что-то близкое к ней для меня означает учение о том, каким образом мы – животные – могли изобрести науку, дающую схематичное представление внешних воздействий на нервные окончания. Именно это учение открывает, что видоизменения нашей онтологии посредством функций замещения столь же хорошо могли бы соответствовать чувственным импульсам <…> Наша научная теория может оказаться ошибочной в известном смысле вследствие неудачи предсказанных наблюдений. Но если неведомо для себя мы случайно нашли теорию, согласующуюся с каждым возможным наблюдением – как прошлым, так и будущим? В каком смысле тогда можно было бы говорить, что мир отличается от того, что утверждает теория? Очевидно, ни в каком, даже если нам удалось уточнить выражение ‘каждое возможное наблюдение’. Наша универсальная научная теория требует от мира лишь одного: он должен иметь такую структуру, которая обеспечила бы те последовательности стимулов, которых ожидает наша теория. Более конкретные требования бессодержательны, как показывает свобода в выборе функций замещения» [Куайн 1998: 340-341].
Как резюмирует далее Куайн, радикальный скептицизм возникает из путаницы, но он не является противоречивым. Вывод философа правомерен: почему бы не усомниться в нашей теории природы, что представляется вполне разумным. Ведь, как показывает эволюция и революция науки, теории и научные концепции преходящи, так как отражают определенное ее состояние в конкретно взятое время. Это выражение некоего детерминизма относительности. В этом отношении важным моментом является проблема взаимосвязи/взаимодействия различных концепций.
6. Взаимосвязь теоретических концепций. Данная тема разрабатывается И.Хакингом. Философ, на основе диахронического сравнения европейских философских отчетов, полагает, что «фундаментальный узловой пункт, который в XVII веке занимали идеи, сейчас принадлежит предложениям» [Хакинг 1998: 264]. Хакинг приходит к выводу о том, что современная ситуация в философии отражает определенное состояние знания. Например, аристотелевский отчет о знании был правдоподобен для его времени, а для универсального анализа современного знания он не пригоден. Данные мысли философа очевидны и неопровержимы. Вызывает сомнение его утверждение о том, что «Философия не-знания не является философией» [Там же: 268]. Пока что отвлечемся от последнего высказывания философа и вернемся к его интерпретации знания, связанного с современным его представлением в европейской традиции. Хакинг в своих размышлениях симпатизирует Куайну, в частности, это выражается в том, что он часто ссылается на него, принимая и цитируя его афоризмы: «Предания наших отцов, – говорит Куайн, суть фабрика предложений». Куайн отмечает, что знание конституируется взаимосвязями (цит. по: [Хакинг 1998: 265]). Хакинг, дополняя мысль Куайна, говорит, что наши предания и предания наших отцов являлись фабриками предложений. Но предания наших предков ими не были, так как знание не всегда выражалось по преимуществу в предложениях. Крайняя приверженность предложениям трактуется как тенденция к лингвализму, суть которого в том, что реальным признается только предложение [Там же: 284]. Другой крайностью считается идеализм. Оба они, по мнению философа, являются крайностями, «содержание которых вряд ли можно обсуждать с пользой» [285].
Хакинг рисует схему взаимосвязи следующих понятий познающий субъект – предложения (общественный дискурс) – (мысли) – реальность – опыт – познающий субъект. Схема сама по себе приблизительна, так как содержит вопросительные моменты, отмеченные философом. Согласно его трактовке, когда меняется один узловой пункт, изменяются и все остальные, в особенности, неадекватно ведет себя познающий субъект квалифицируемый как ‘сомнительный’ [283]. Сам Хакинг находится в поисках собственного метода исследования или, точнее сказать, в поисках выбора между двумя альтернативами – признавать или не признавать сомнительного познающего субъекта: ратовать за автономность знания, выражаемого в предложениях, что позволит установить изменения, происходящие в системе предложений, постулировать ‘анонимные’ дискурсы, существовавшие в различные времена и в различных пространствах (ср. с М.Фуко), или исследовать поведение наших собственных предложений в пределах общественного дискурса, не отбрасывая реального познающего субъекта без ярлычка ‘сомнительный’. Отбрасывание познающего субъекта приводит к проблеме все того же ‘стороннего наблюдателя’ или ‘вездесущего’. У Хакинга он становится ‘сомнительным’. Приятие нормального познающего субъекта ведет к симпатизированию интенциям Грайса и его привлекательной программы. Хакинг склонен к соединению этих альтернатив, но он пока ограничивается тем, что отвечает на вопрос «почему язык является предметом изучения современной философии» следующим образом:
«Он является предметом изучения по той же причине, по которой идеи являлись предметом изучения для философии XVII века, потому что идеи в то время и предложения сейчас служат границей между познающим субъектом и знанием. Предложение имеет даже большее значение, если мы начнем обходиться без вымышленной фигуры познающего субъекта и будем рассматривать дискурс как автономный» [288].
Признание Хакингом уместной сущности общественного анонимного дискурса – это не только возможность выхода из детализированной метафизической традиции интерпретации в различных видах (герменевтическом, психоаналитическом, формально-логическом, феноменологическом), но и возможность скрещения имеющихся англо-американских традиций с существующей французской традицией, которая, не отбрасывая вышеназванные направления, живет преимущественно в широчайшем дискурсивном интертекстуальном пространстве–времени. Взаимодействие культур и традиций – лучшее средство для освоения дискурсивного пространства–времени. Признание преобладания познающего субъекта отдаляет его от интерсубъективности и приводит к двум крайностям: либо к эгоцентрической интроспекции, которая безысходно засасывает этого познающего субъекта, помещает его же в него самого (познающий субъект с