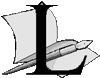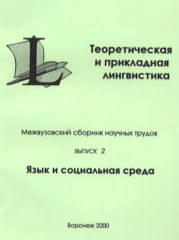А.А.Ворожбитова (Сочи)
"Официальный советский язык" периода Великой Отечественной войны: лингвориторическая интерпретация
На материале анализа публицистики периода Великой Отечественной войны рассматриваются характерные черты советской языковой личности, представлена соответствующая лингвориторическая картина мира.
The article discusses characteristic traits of the Soviet language world view, as well as its rhetoric aspects, basing upon the textulal documents from the period of the Great Patriotic war.
Советский дискурс выступает социокультурным феноменом лингвориторической, речемыслительной природы; его социопсихологическим ключом как ментального мира, по Ю.С.Степанову, являются строки гимна: Мы наш, мы новый мир построим (Степанов 1995). Периодизацию советского дискурса можно условно представить следующим образом:
-
истоки – вторая половина ХIХ в. (в датированной 1862 г. прокламации П. Зайчневского «Молодая Россия» впервые в русской истории убийство провозглашается нормальным средством социальных инноваций [см.: Будницкий 1996: 5];
-
«нелегальный период» – ХХ в. до 1917 г.;
-
функционирование: 20-е гг.; 30-е гг.; эпоха Великой Отечественной войны; ‘оттепель’; ‘застой’. Фазами эволюции русского советского дискурса, ее восходящей и нисходящей ветвями выступают эпохи революционного и официозного пафоса; «смена сталинской системы террора хрущевским реакционно-политическим государством» [Фромм 1992] в лингвистическом отношении знаменуется потерей агенса, экспансией номинализованных конструкций, генитивных цепей и т.п. [Степанов 1995].
-
перестройка;
-
постперестройка.
Начальную стадию развития советского дискурса можно проследить, например, по статье Н.А. Бердяева «Духи русской революции» [Бердяев 1990] – в безобидном на первый взгляд и полном благих намерений ‘ручейке’ подпольной мыслеречевой деятельности российской интеллигенции ХIХ в. Он закономерно превратился в ‘бурный поток’ советского дискурса, в котором особым периодом стал период Великой Отечественной войны и который в постперестроечную эпоху раздробился на плюралистические ручейки, сохранив специфический налет официозной стилистики, формирующей ‘деревянный язык идеологии’ [Рыклин 1992: 5].
Этапными в функционировании советского дискурса как социокультурного феномена можно считать следующие экстремальные языковые ситуации:
-
период Октябрьского переворота и гражданской войны, когда происходит раскол национального русского макродискурса на советский, исподволь вызревший в его лоне, и альтернативный антисоветский, аккумулировавший нигилистически отвергнутые духовные ценности;
-
период Великой Отечественной войны, когда советский дискурс, мобилизовав все резервы, выстоял в смертельной схватке и широко распространился в мире;
-
‘перестройка’ 1985 г., которая ‘маркирует начало конца тоталитарного языка советской эпохи’ [Купина 1995].
Важность исследования лингвориторической специфики советского дискурса обусловлена пристальным интересом к данному периоду в истории России. По естественному закону ‘маятника’ современную языковую ситуацию в России определяет прежде всего стремление совокупной языковой личности этносоциума к изживанию последствий гиперидеологизации лингвориторической картины мира, национального языка в целом, преодоление метастаз новояза советского официолекта. Русский язык (русский дискурс по Н.Д.Арутюновой, а в нашей терминологии – национальный макродискурс) оказался в определенной степени деформирован советским дискурсом как идеократическим мыслеречевым конструктом, вызревшим в недрах самого русского языка. Негативные стороны советского дискурса можно метафорически представить как ‘солнечное затмение’ русского дискурса, в котором правда, т.е. не искаженная в идеологических целях адекватная информация о действительном референте, выглядит оставшимся светлым участком.
В рамках советского дискурса доминантой в парадигме его функционально-стилевых реализаций, максимально ‘сильной позицией’ его идеологического самораскрытия предстает публицистический дискурс. Мы обращаемся к публицистике периода Великой Отечественной войны как к особому, специфическому периоду существования советского ментального мира, когда под угрозой тотального уничтожения огромной империи наиболее ярко продемонстрировали свою лингвистическую и экстралингвистическую специфику конструирующий этот мир дискурс, детерминированный соответствующей лингвориторической картиной мира. Война стала таким испытанием для этноса, которое не могло не обусловить специфику глобального дисурсивно-текстообразующего процесса совокупной языковой личности этносоциума, не найти отражение в характере индивидуальной мыслеречевой деятельности. Исследование значительного массива публицистических текстов периода Великой Отечественной войны показало, что в публицистическом дискурсе данного периода четко выделяются три противопоставленных по ряду признаков пласта:
а) официозная печать (передовицы «Правды», выступления официальных лиц и др.);
б) личные дневники, записные книжки и др. формы неофициальных высказываний писателей военного периода, отражающие мучительный разрыв между официальной ‘правдой’ и реальным положением дел;
в) публицистические статьи мастеров слова (по отзывам ветеранов, статьи Эренбурга, Толстого, Шолохова, Леонова, Соболева и др. писателей обладали огромной силой воздействия, в буквальном смысле вдохновляли на подвиги, помогали уничтожать врага);
В своей совокупности они образуют ярко выраженную парадигму и условно квалифицируются нами как разновидности советского публицистического дискурса:
-
официолект (официальный публицистический дискурс);
-
реалиолект (неофициальный советский дискурс искренне советских языковых личностей, преданных идеям социализма и винящих во всех бедах «переродившееся правительство», «антинародный институт НКВД» (О. Берггольц). Системой координат здесь выступают жизненные реалии, события, которые и становятся фактами сознания, будучи вербально оформлены);
-
публиолект (некое промежуточное с точки зрения ‘удельного веса правды’ ментальное субпространство советского дискурса. Такой дискурс достаточно реалистичен, иногда даже нелицеприятен, однако он пропущен цензурой).
В наиболее ‘чистом’ виде эта дихотомия предстает при сопоставлении газетных передовиц и оппозиционных системе дневниковых записей. В различном соотношении, она синтезируется в допущенных к публикации статьях больших писателей, мастеров слова, правдивых в силу своего большого таланта (Л.Леонова, М.Шолохова, Л.Соболева, И.Эренбурга и др.).
Следует учитывать, что на протяжении всего существования советского строя параллельно функционировал антисоветский дискурс, не приемлющий марксистско-ленинскую идеологию в принципе, т.е. альтернативное советскому ментальное пространство. Таким образом, этос, логос и пафос совокупной русской языковой личности, в частности, периода Великой Отечественной войны, находили свое воплощение в следующих продуктах:
1) в русском советском дискурсе:
а) в официолекте; б) в реалиолекте; в) в публиолекте;
2) в русском антисоветском дискурсе, категорически выступающем против марксистско-ленинской идеологии.
При этом возможна ‘миграция’ отдельной языковой личности из одного ментального субпространства или даже пространства в другое, в том числе альтернативное. Так, дневниковые записи М.Пришвина довоенных лет являются антисоветскими по своей идеологической сущности и идейной направленности. Однако в период Великой Отечественной тональность его исповедальной прозы меняется: писатель симпатизирует большевикам, исключительно с ними связывая возможность одолеть фашистов.
С социокультурным понятием народ в нашей концепции коррелирует категория антропоцентрической лингвистики – совокупная языковая личность этносоциума. По словам Ю.Н.Караулова, языковая личность вообще – не более, чем абстракция, приходится говорить о ее конкретной, прежде всего национальной модификации; «национальное пронизывает все уровни языковой личности» [Караулов 1987: 42]. Если в системе координат русского языка рождается представление о русской языковой личности, то в системе координат советского дискурса закономерно возникают специфические черты советской языковой личности – русской или русскоязычной, индивидуальной или совокупной. Таким образом, советский человек как языковая личность – это советская языковая личность; советский народ образует совокупную языковую личность советского этносоциума – обобщенный ментальный коррелят понятия homo soveticus.
Строящая новый ментальный мир новая социокультурная общность – советский народ – объективно существовала не только в ее идеальной, декларируемой ипостаси, но и в реальности – как ее ментальное отражение, в среднестатистическом гражданине Советского Союза. Диапазон широк: с одной стороны, индивидуальные случаи высочайшего духовного взлета личности, одушевленной идеями социальной утопии, попавшими на благодатную почву индивидуальной человеческой порядочности, – П.Корчагин, З.Космодемьянская и др.; с другой стороны – тщетные и карикатурные попытки их массового тиражирования посредством ‘морального кодекса строителя коммунизма’; между этими полюсами – простые, добрые и честные ‘обыкновенные советские люди’, которых было немало. Однако никому не удавалось, очевидно, прожить без идейных компромиссов между декларируемыми на бумаге идеями и реалиями как строящегося, так и ‘развитого’ социализма.
Анализ лингвистической литературы и обширного текстового материала позволил нам выделить следующие характерные черты советской языковой личности:
1. Специфика языковой ситуации советского времени, определяемой как идеологическая диглоссия, ‘тоталитарный билингвизм’, обусловила то, что советские люди являлись по существу двуязычными, советская языковая личность свободно переходит с ‘советского’ языка на ‘человеческий’ язык в зависимости от ситуации общения (официальная / неофициальная).
2. Советская языковая личность выступает как во многом ущербная, а уровни ее структуры – вербально-семантический, лингво-когнитивный, мотивационный – как деформированные; систематическое нарушение советским официолектом прагматической конвенции вызывает ‘функциональное расстройство’ совокупной языковой личности этносоциума, болезнь которой можно квалифицировать как ‘синдром трибуны’.
3. Неадекватность представлений совокупной языковой личности этносоциума, функционирующих в рамках советской мифологии, ее специфический прагматикон.
Лингвориторическая картина мира совокупной языковой личности этносоциума целенаправленно деформируется в пропагандистских целях, тем самым реализуется идеологическая, или пропагандная, функция языка.
Опираясь на перечень типовых познавательных операций при интерпретационном конфликте (Б.Л.Борухов), отметим следующие когнитивные особенности работы базового, инвентивно-парадигматического механизма реализации лингвориторической компетенции:
1) инвентивно-тезаурусно-логосные операции, совершаемые языковой личностью в дискурсивно-текстообразующем процессе в рамках определенной лингвориторической картины мира приводят к тому, что опускаются и добавляются разные элементы и свойства объектов реальной действительности. При этом актуализируется неосознанное ‘референциальное творчество’, (человеческому сознанию необходима целостность мировидения, поэтому лакуны заполняются логично и правдоподобно [Фромм 1992: 348];
2) исходя из этосно-мотивационно-диспозитивных параметров лингвориторической картины мира происходит разное членение и последующий монтаж вычлененных элементов; членение референта и соответственно инвентивно-диспозитивный каркас мыслеречевого произведения (текста) у носителей двух лингвориторических картин мира различен, вплоть до диаметральной противоположности. При этом альтернативному членению подвергаются:
-
событийно-персональный слой реальности;
-
пространственно-временная структура реальности;
-
количественное вычленение элементов;
-
их качественный состав;
-
степень дробности членения;
-
порядок монтирования.
3) исповедуемой лингвориторической картиной мира детерминируются такие логосно-когнитивные операции, как акцентуация (зачисление объекта в разные классы), проецирование (корефентные вербальные оценки), символизация.
Как показал анализ текстового материала, референциальная агрессия советского публицистического дискурса в исследуемый период осуществляется в двух аспектах:
– аннигиляция действительного референта как антисоветского (тип «отсутствие карты для реально существующей территории» –П.Серио);
– резко враждебная, пейоративная интерпретация чужого (т.е. идеологически чуждого) референта: буржуазное, капиталистическое, следовательно – плохое.
При этом естественная субъективность отбора субконцептов уступает место искусственной, заданной ‘политическим априори’. И как бы ни была безупречна работа элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции данной литературной личности, насколько бы ни обладал ее текст коммуникативными качествами образцовой речи – правильностью и чистотой, точностью и логичностью, богатством, выразительностью и др. – это дискредитируется нарушениями работы инвентивно-парадигматического механизма реализации лингвориторической компетенции под идеологическим давлением данного дискурс-универсума, привносящего в текст ‘минус-референцию’, принуждающего языковую личность в публичном идиодискурсе рисовать «как карту, не соответствующую никакой реальной территории (ложь), так и несколько карт для одной и той же территории (двойственный язык)» [Серио 1993: 85].
Культура речи совокупной языковой личности этносоциума есть манифестация качественных характеристик лингвориторической картины мира, образующей концептуальную схему официально господствующего дискурса, воплотившего пафосное априори политической эпистемы. ‘Метастазы новояза’ страшны не столько в стилевом отношении, сколько в качестве механизмов этосно-логосной деформации мотивационного и лингво-когнитивного уровней совокупной языковой личности. Если ‘зарубежные’ статьи А. Толстого предвоенных лет формируют в сознании советской языковой личности стереотипы негативно-враждебного восприятия высокой культуры обслуживания (Бойтесь этих витрин, они пострашнее сирен Одиссея…; Вот, черт возьми, – думаете вы, – во что превращены томительные трудодни немецких пролетариев! и т.п.), то автокоммуникация дневников М.Пришвина, А.Довженко, О.Берггольц, не приемлющих убожество ‘нового быта’ и лицемерия власть предержащих, вербализует специфический, официально как бы не существующий, антисоветский референт, целенаправленно вытесняемый из языкового сознания фильтром ‘советского языкового дискурса как принудительного ментального мира’: Богатое государство, которое создают бедные люди – абсурд; Ободранные старые и молодые ходят без каких бы то ни было признаков человеческого достоинства в глазах и т.п. (А.Довженко).
Выбор между этосом и антиэтосом языковая личность делает в рамках преддиспозитивно-ориентировочного механизма реализации лингвориторической компетенции. В автократическом обществе эта работа приобретает специфику взвешивания всех ‘за’ и ‘против’. В зависимости от наполнения мотивационного уровня, прагматикона языковой личности, она идет или не идет на компромисс со своей ‘референтной совестью’. Опираясь на свидетельства современников, ‘собратьев по литературному цеху’, по типу преддисподзитивно-ориентировочной тактики некоторых писателей можно условно отнести к ‘циникам’ (ср.: А.Солженицын об А.Толстом), ‘конформистам’, ‘непокорившимся’, ‘идеологическим маргиналам’ и т.д. Так, М.М.Голубков в докладе «Социокультурная ситуация 20-х годов и проблема творческого поведения писателя» анализирует программы поведения литературной личности, реализованные в 20-30-е гг. Диаметрально противоположные варианты творческого поведения представлены, с одной стороны, возможностью органического включения в ситуацию, подчинения вкусам и требованиям массы (Д.Фурманов, А.Фадеев), а с другой, явного или скрытого противоставления им (А.Грин, В.Замятин, М.Булгаков). Промежуточный вариант литературного поведения реализован в творчестве М.Зощенко и А.Платонова, которые, представительствуя в литературе от лица человека массы, попытались эстетически использовать самые трагические стороны новой социокультурной ситуации. Разные типы литературной личности, функционировавшие в рамках советского ментального пространства, с лингвориторических позиций напрямую связаны с этической ответственностью их речевого поведения, таким образом, типологию советской литературной личности детерминирует характер реализуемой в произведениях этосно-логосно-пафосной координации. Программу-максимум литературной личности можно сформулировать, словами М.М.Бахтина: «Искусство и жизнь не одно, но должно стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [Бахтин 1994: 8].
Половинчатая в референциальном отноношении, а следовательно, этосно неполноценная речевая деятельность является возможной для одной литературной личности и невозможной для другой – в силу различного прагматиконного наполнения, эмоционально-мотивационного ‘топлива’, которое обусловливает возникновение творческой интенции и ее реализацию в дискурсивно-текстобразующем процессе. По характеру этосно-логосно-пафосной координации различаются, например, проанализированные нами фрагменты из наследия А.Довженко и А.Толстого – вариативные интерпретации действительности, возникшие в условиях идеологически обусловленной ментальной диглоссии и расчленения советского дискурса на, с одной стороны, официолект партийной бюрократии и публиолект выпущенных в печать авторских произведений, с другой стороны – реалиолект потаенной литературы. В антифашистском публиолекте обращает на себя внимание яркая советская апологетика предвоенных лет А.Толстого – своего рода ‘географическая карта’ советского ментального мира, с которой в ярко выраженный интерпретационный конфликт вступает реалиолект дневниковых записей А.Довженко.
Референциальная агрессия советского дискурса специфична. Например, анализ публицистики А.Толстого, посвященной Западу, показывает, что он правдиво рисует ‘карту существующей территории’ (П.Серио) капиталистического быта, однако ‘территория’ быта советского (без прикрас представленного в дневниках К.Чуковского, А.Довженко, Ю.Нагибина и др.) отсутствует, и его идиодискурс становится ложным именно в силу нулевого противочлена. Перед нами описанный Э.Фроммом феномен словесного фетишизма, т.е. вытеснения осознания фактов, не вписывающихся в рамки социально-политической утопии. В этом отношении пресловутое современное ‘косноязычие депутатов’, оформляющее реальный, а не сюрреальный контекст, на наш взгляд, предпочтительнее образцового русского языка А.Толстого, коль скоро последний искажает действительность, т.к. язык прежде всего – действительное сознание, средство ориентирования совокупной языковой личности этносоциума в реальном мире.
Специфику советской языковой личности, на наш взгляд, составляет обусловленная уникальностью условий ее существования – одновременно в двух ментальных пространствах – специфика осуществления продуктивного (и рецептивного) идеоречевого цикла, работы механизмов реализации лингвориторической компетенции в условиях парадоксального наложения, как минимум, двух лингвориторических картин мира – официально-мифологической и относительно реальной, выводимой из фактов, доступных наблюдению. Русский, точнее, русский советский язык является при этом своего рода медиатором; языковые трансформации, которые текст писателя претерпевал при цензорском вмешательстве, служат сигналами перехода – с информационными потерями и денотативного, и сигнификативного, и коннотативного характера – авторской, естественной лингвориторической картины мира в официозную.
Пагубное воздействие противостояния бюрократической машины творческой языковой личности, а также агрессивность советского дискурса проявлялись различными путями: воздействие на сознание, убеждение; открыто насильственные меры, принуждение.
В записных книжках, которые вели писатели в годы войны, выпукло предстает специфика существования литературной личности в рамках советского дискурса. Идеологический этосно-логосно-пафосный континуум, формирующий действительно принудительный метальный мир, программирует работу всех механизмов реализации лингвориторической компетенции автора и обусловливает специфику их функционирования в условиях автократического режима. Записи О. Берггольц 1942 г.:
Мне... все карнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче (11.4.42); Проходит инстанции» – еще, м.б., и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, ‘руководство’ тупо и бездарно; В Ц.О. от 30/6 – напечатали «Ленинграду». Правда, сняли одну ценную строфу, – но в целом, – это акт, достойный удивления: пропущено и ‘наше сумрачное братство’, и ‘наш путь угрюм и ноша нелегка’. Это – первое мое выступление в Ц.О., и оно не стыдное – честное, и стихи неплохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувство (2.7.42).
Честное осмысляется в данном контексте как антипод лживому, синоним правдивому – то есть соответствующее реальным впечатлениям литературной личности. Из фрагмента ясно, что именно было неугодно, не соответствовало советскому дискурсу, организующей его лингвориторической картине мира – то, что противоречило сусальной героике, отражало человеческие чувства реальных, обычных людей, не вписывалось в мифологему советского сверхчеловека.
Для советского официального дискурса, адресованного массам, характерно нарушение одного из важнейших требований коммуникации – информационной новизны. Сообщение очевидных для адресата вещей является отступлением от принятых максим общения [Арутюнова 1990: 390]. Отсутствие в высказывании новой информации о референте создает отрицательный коммуникативный эффект псевдореференциальности, манифестируя тезаурусную недостаточность официолекта. Его инвентивный стержень строится на ущербной логосно-когнитивной основе, вследствие чего квалифицированный потребитель, прежде всего писатель как профессиональная языковая личность, испытывает информационный голод, ‘дефицит референта’, ясно ощущая когнитивный ступор языка власти. Это, в частности, фиксируется в дневниках интеллигенции сталинской эпохи. Так, в следующем примере устами А.Довженко реалиолект высмеивает типичную для официолекта логосно-тезаурусно-инвентивную стратегию:
26.VIII.1945. Сегодня я прочел историческое Обращение т.Сталина к народу. Радости моей нет предела. Я радуюсь, будто мне семь лет, такая она великая и чистая у меня и прозрачная радость. Я узнал, что Германия была на Западе, Япония на Востоке, что японцы, оказывается, нападали на нас несколько раз, начиная с 1904, 1918, 1922 гг. и т.п. и что наступил конец второй мировой войне. И хотя ничего более я не узнал, и хотя к фразе — «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины» — не прибавлено снова ни единого теплого слова, будто их погибло значительно меньше, чем 299 000 американцев, я говорю себе следом за великим маршалом-генералиссимусом, вождем и учителем: слава нашему великому народу-победителю, тем большая слава.
Горькая ирония и убийственный сарказм в данном случае выступают синтетическими инвентивно-элокутивными приемами дискурс-синтагматики, лингвориторическими переключателями ментальных подпространств двух родственных субдискурсов – официолекта и реалиолекта.
В следующей дневниковой записи А. Довженко официолект предстает, на первый взгляд, более корректным в референциальном отношении, нежели реалиолект, однако вербализация референта адекватна лишь в сугубо формальном плане (ср. ставшее афоризмом Самого главного глазами не увидишь (А. де Сент-Экзюпери):
Прочитал Н. мою статью «Украина в огне». Он сказал мне:
– Одно место нереально. Ты пишешь – был великий плач. Это неправда. Именно никакого плача не было. Смотрели печально, но не плакали. Никто не плакал, понимаешь?
Брешешь, – подумал я, – брешешь, слепой чиновник. Плакала она вся, обливала слезами твою дорогу, а ты смотрел на нее через свои очки и через стекло закрытой машины и ничего не видел, потому что не хотел видеть, слепец. Плакала, ой как плакала! Ни одна страна на свете так не плакала. Даже старые деды плакали так, что глаза опухали от слез. (Курсив наш. – А.В.).
В данном случае официальная мыслеречевая стратегия демонстрирует последовательный и убежденный в своей правоте и потому особенно страшный антигуманизм, который выступает неотъемлемым атрибутом бюрократической системы, персонифицированной в типе ‘бездушного советского бюрократа’. Казалось бы, парадокс: теперь уже Довженко, носитель и страстный проповедник реалиолекта, рисует, по выражению П. Серио, ‘карту, не соответствующую никакой реальной территории (ложь)’, причем настаивает на своем видении с неподдельным жаром и максимальным пафосом, о чем свидетельствует повышенный метаболизм автокоммуникации (обращение, повтор, метафоры, олицетворение). Однако интерпретация писателя интуитивно воспринимается как более соответствующая реальности – если не чисто физическо… Продолжение »